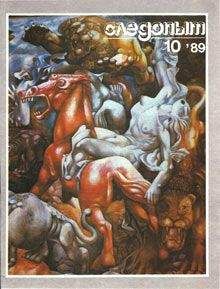страничку опасного террориста. Взбаламутившего болото. Вот такой мой горький опыт. Забанили, заткнули рот. А, Глеб Владимирович? Не дали развернуться, а? – уже смеялся кучерявый террорист.
В редакции – сразу Савостина увидели. Лёгок на помине! Плоткин тут же подлетел к нему и громко спросил, надеясь на спектакль для всех:
– Виталий Иванович, вы знаете про всемирно известный портал…. (Портал был назван).
– Ну знаю. И что?
– Так почему ваших произведений нет на нём?
– Ещё чего! Среди графоманов-то? В эту кучу дерьма? Я печатаюсь во всемирно известной библиотеке. Этого. Как его? Горшкова. У меня там 10 тысяч скачиваний! Моего Артура читает народ! А вы никак не можете с ним управиться. (Расправиться, наверное?)
Плоткин затряс автору руку:
– Молодец, Виталий Иванович! Просто молодец! Так держать!
Автор, встряхиваемый редактором – сердито смущался:
– Да ладно. Чего уж теперь. Раз народ признал. Давайте, работайте. Гоните Артура в народ.
Сотрудники отворачивались, прятали смех. Один верстальщик Колобов откровенно безнаказанно смеялся. Колотился прямо в кресле.
Но что там Колобов какой-то. Что он понимает? Народ признал!
2
Плоткин в воскресенье с утра решил соответствовать встрече. Поэтому надел и явился к Зиновьевой и Ярику в модных джинсах. С дырами на коленях. Как будто собаки рвали человека, а он еле отбился.
– Ну, вот и я. Как вы, мои дорогие? Готовы?
Сегодня своих дорогих Плоткин решил поразить. Намерен был повести в музей. В Музей печати. Ярик запрыгал, хотя и не представлял, что это такое. Однако Зиновьева даже пропустила мимо слово «музей» – во все глаза смотрела на голые коленки любимого.
Уже хмурилась, сердилась. Ей что, тоже закосить под джинсу. Какую-нибудь джинсовку надеть с цепями, с колоколами?
– Ну и зачем ты вырядился так? А?
– Но позволь! Ты же тоже будешь по-молодёжному – в кофточке с плечом?
– Да кто тебе это сказал! Господи! – говорила уже из спальни Зиновьева. Где из противоречия какого-то надевала свой самый строгий женский костюм. Костюм переводчицы, секретаря, менеджера среднего звена корпорации.
В Музее печати Плоткин несколько смущался своего вида, но кое-где ходили такие же оборванцы, и парни, и девицы, и Плоткин успокоился – он в бренде.
Зиновьева с сумочкой и в строгом своём костюме всё время стремилась как-то в сторону от оборванного. Помимо воли. И Ярика за собой тащила. Но джинсовый догонял и направлял, куда нужно. К нужному экспонату. Чёрт знает что! – спотыкалась женщина на высоких каблуках.
В довольно большом зале с четырьмя окнами ничего не могла понять среди старинных расставленных чугунных монстров. В виде паровозов и железных высоких арф. Ярик всё время кидался к гильотинному ножу для обрезки книг. Пытался орудовать им. Приходилось уводить и тихо внушать.
Наконец вышла экскурсовод с белым бейджем на кофте. Посетители сразу окружили её. И оборванцы, и нормальные люди. Экскурсовод останавливалась у какого-нибудь станка и рассказывала его историю, как и положено, показывая указкой на железные детали. Ярик притих. И даже оборванец рядом потупился.
Через какое-то время женщина с бейджем ушла, и все опять стали бродить сами по себе. Ярик кидался к ножу – приходилось оттаскивать.
Зиновьеву тронули за плечо:
– Здравствуй, Лида…
Кирилл Кочумасов! Глаза выкатываются, сдохшие муравьи будто ожили. Ползают по лысине!
– Лида, я хочу… ты не имеешь права… ты не должна… я отец… слышишь?.. ты обязана нас познакомить… я имею право… Лида!..
Зиновьева беспомощно оглянулась. Плоткин и Ярик всё боролись с гильотиной.
Женщина уже пятилась, вырывалась. Плоткин увидел, подбежал:
– В чём дело, гражданин! (Прямо милиционер, современный полицейский.) Вы что это себе позволяете в музее!
Кочумасов во все глаза смотрел на плюгавенького мужичонку. На мужичонку в рваных джинсах. Рядом с хорошо одетой Зиновьевой. И это твой избранник? Твоя любовь? Кочумасов не видел даже сына, держащего плюгавенького за руку. Повернулся, пошёл из зала. С лысиной сзади загорелой – как пятак.
Тоже вышли на набережную. Мать и сын молчали. Музейные печатные машины обсуждать не могли. Плоткин воочию увидел полярника папу. Однако – делал вид. Уже тащил в кафе неподалёку. Мороженое от души! Тархун! Джазок из колонок! А, мои дорогие? Скорей за мной!
Через неделю, тоже в воскресенье, оставили Ярика с Идой Львовной смотреть телевизор и есть всякие вкусняшки. А сами по-быстрому вернулись обратно в квартиру Лиды.
После индийского кино в прихожей и спальне – голый лежащий воин сказал:
– Он ведь не отстанет, Лида. Так и будет преследовать… вас… (Сказать «преследовать н а с», язык не повернулся.)
Зиновьева безотчётно перебирала волоски на грудке воина.
– Нет. Он трус. Будет только выглядывать из кустов.
Непонятно было: в осуждение это она сказала или с сожалением. И опять же, а как он, Григорий Плоткин? Как же быть с ним, в конце концов? Куда его девать, черт побери!
Поздно вечером, после того как отвёл Лиду и Ярика в их квартиру, висел на чугунной огородке над каналом, окутывался дымом. Никуда не хотелось идти. Ни домой, ни обратно к Зиновьевым. Посмотрел на кафе, где были неделю назад. Но оттуда уже выдавливали всех наружу.
Хотелось плюнуть вниз, в дрожащую луну. Не посмел. Пошёл домой так. Со слюнями.
Ночью долго не спал. Всё вспоминал инцидент, случившийся в музее. Стычку, сказать по-русски. Себя, – трусливого, но духарного, всё ждущего, что прилетит в лицо кулак. Железную надувшуюся Зиновьеву, которую, казалось, ничем не прошибёшь. Смущённого до слёз, не знающего, куда деваться мальчишку, который давно догадался, давно всё знал про полярника папу…
Плоткин прошептал, засыпая: «Бедный пацан… С такой матерью…»
3
– …А ты похвали его, доча, сперва, похвали. А уж как он поплывёт, ты тут его и прищучишь. Да. Похвали его, доча, похвали, не бойся…
– Хватит, мама, хватит!
Беременная доча ходила по спальне, хватала какие-то тряпки. Ямочки возле губ резко означились на злом лице. Как при доброй улыбке. Это всегда пугало Анну Ивановну. Господи, опять как гангстер на деле. В весёлой маске…
Доча, уже присогнутая, налаживала на себя широкий пояс. Как будто плохо обученная лошадь. На поясницу и большой живот. Сбруя не налаживалась, съезжала. Мать бросилась, стала помогать.
– Я тоже, когда тобой ходила, напяливала такую же. Только та красивше была. В цветочек и с застёжками.
Из прихожей послышался телефонный звонок. Никак не ожидаемый женщинами.
– Ответь, – сказала дочь.
Анна Ивановна на цыпочках побежала и сняла трубку:
– Слушаем.
Сперва ничего не могла понять. Но дошло. Из Германии. Эта, как её?
– Поняла, поняла. Сейчас. Кто я? Я мама. Сейчас позову.
Так же на цыпочках прибежала. И сообщила дочери. Чуть не на ухо:
– Там эта. Из Мюнхена. Глеба требует.
Не надев толком пояс, Каменская заспешила в прихожую, схватила трубку:
– Да, Алёна Ивановна! Здравствуйте! – И тоже напряжённо слушала далёкий голос.
– Я вас поняла, Алена Ивановна, поняла. Но он с час как ушёл на работу. Звоните ему туда, он должен быть на месте. – Вдруг осмелела: – Когда вас ждать к нам в Питер на гастроли,