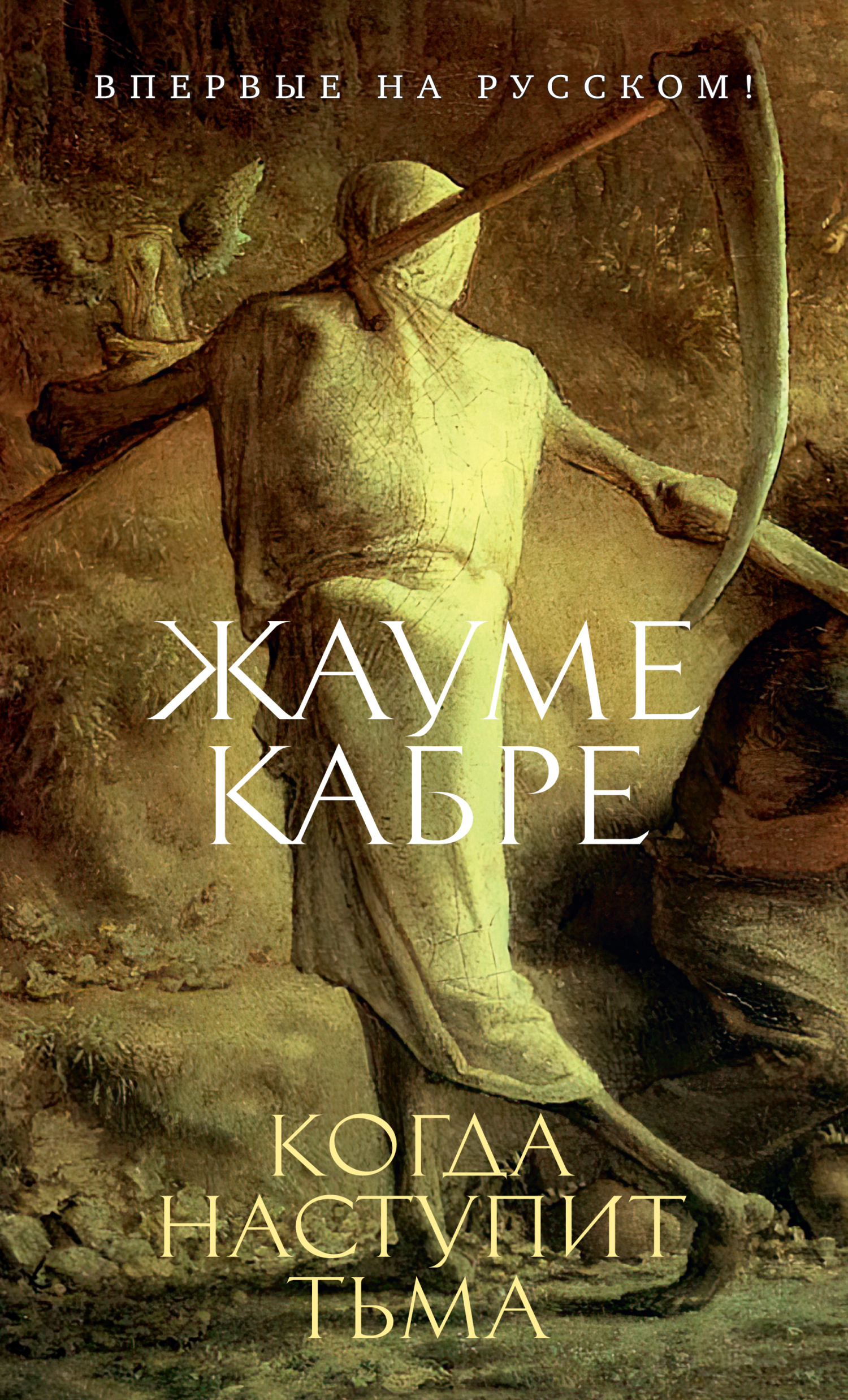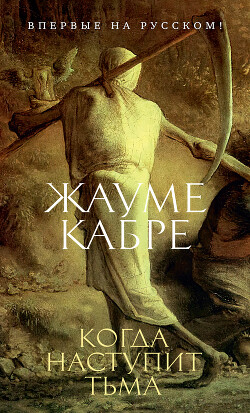где у благословенной богом стены ждала меня она, с улыбкой истинного счастья. Однако всего через несколько секунд улыбка испарилась. Элоизы там не было. Что ж, наверное, она около… Может быть, чуть правее… Может быть, ищет, куда выбросить бумажку… Или вышла на минутку посмотреть, нет ли… Перед тем как доехать до низа, я уже разработал две тысячи гипотез, дававших полное обоснование исчезновению Элоизы. Я оглянулся вокруг: там было пруд пруди равнодушных лиц, но лицо моей валькирии бесследно исчезло. Тогда я разнервничался, и душа моя сказала, Элоиза, мой поток в ущелье, ubi es? [124]
Не знаю, прошло два часа или три, но я все обыскал. Я опросил сотню человек, раз пятьдесят выходил на улицу, думая, черт, черт, черт, только бы ее не сбила машина, только бы ее не взяли в заложники или просто не убили. Я бегал по всему кварталу, заглядывая везде, даже в мусорные баки, в поисках какого-нибудь знака, который указал бы мне, куда запропастилась девушка с глазами цвета речного водопада. И все же наступил конец света, и я не нашел ничего, кроме доводов, что больше Элоизу не увижу. Ближе к вечеру, усталый и голодный, вспотевший, с пересохшим горлом я вышел из министерства с большим желанием укрыться в звуковой вселенной «Кинг Кримсон», и чтобы все вы шли куда подальше. Нет, не вы, братие: они. И мне так хотелось послушать «Кримсон», что я надумал направиться в магазинчик пластинок на Остерхаусгейте и сделать вид, что собираюсь купить «In the wake of Poseidon» [125], например. Я спустился в метро, думая о том, лучшим ли местом является магазин на Остерхаусгейте для того, чтобы послушать «Кримсон» и оправиться от потрясения. При виде белых плиток в проходе метро, несмотря на неутешное мое горе, у меня в голове снова зазвучала тайная мелодия, которую я слышал несколько часов назад, и я тут же решил забыть о «Кримсон» и пожелал как можно скорее принять дозу Сибелиуса. Мне было грустно, братие. Невероятно грустно. Quae solitudo esset in Metropolitano, quae vanitas! – воскликнул первомученик Стефан, оказавшись в том же положении, что и я [126]. Я пропустил три состава в надежде услышать, как в этом совершенно неподходящем месте кто-то насвистывает мелодию, но мне не повезло. То есть даже хуже, потому что импозантного вида женщина, черноволосая и синеглазая, установила возле меня колонки и дьявольскую машину, угрожающе мне улыбнулась и начала петь, в сопровождении звукозаписи, постыдное собрание самых известных и засаленных арий из оперного репертуара. Пока мнимая сопрано наполняла воздух ариями, я терзался сомнениями, размозжить ли ей череп или подрезать голосовые связки. Однако вспомнил, что я все еще играю на чужом поле, и предпочел воздержаться. Когда мое терпение истощилось, я решил уехать первым же эшелоном. Как только поезд подошел, дамочка смолкла в честь моего отъезда. Вагон был почти пуст. В тот момент, когда двери за моей спиной со вздохом закрылись, я услышал, как ясно, четко, почти насмешливо звучит все та же мелодия из «Финляндии». Она доносилась с перрона. В отчаянии я попытался не дать дверям закрыться, безрассудно подставляя под них руку. Однако и та и другая дверь равнодушно гильотинировали мою петицию, в то самое время как поезд тронулся и увез меня, против моей воли, прочь от всякой надежды на мечту.
Еще до приезда в гостиницу я, Кикин Барселонский, уже свалился с лошади [127] в Остерхаусгейте. Очередная Сигрид [128] как раз собиралась дать мне «Посейдона», но на прилавке лежала целая стопка дисков «Последнего выступления Пере Броза», и меня стало распирать любопытство, потому что, если выступление последнее, значит мужик сыграл в ящик, а ведь благодаря ему и Кремеру я еще совсем недавно сорвал здесь, в Осло, солидный куш. Я заинтересовался и попросил, чтобы мне дали послушать запись. Шуберт, с его типичным плачем в си-бемоль мажоре. Но что за долбаный Фишер такой… До чего же, сука, странная и прямо фрипповская вещь. Короче, я пять раз ее прослушал и решил стянуть один из этих дисков, потому что, по справедливости, эта невероятная музыка должна была стать моей собственностью. По возвращении из своего Дамаска с компакт-диском в кармане куртки я увидел возле гостиницы улыбающегося доктора Веренскиольда в сопровождении двух упитанных государственных служащих в полицейской форме; он спросил, в какой дыре я пропадал все это время, и передал меня в руки одного из громил, который оказался не громилой, а достаточно известным комиссаром полиции, имя которого я не запомнил. Оказалось, что моя валькирия-адвокат написала-таки на меня заявление за попытку посягательства, а мой хитрожопый боснийский приятель сдал меня со всеми потрохами и рассказал им, что под моим руководством была создана нелегальная организация по продаже контрабандных сигарет за полцены. И та и другая клевета вывели меня из себя, но любезные стражи порядка недвусмысленным жестом дали мне понять, что всякое сопротивление бесполезно.
Если бы мне удалось все это передать словами, братие, это письмо стало бы Первым посланием Кикина к Барселонцам. Однако писать я не в силах, потому что полицейский фургон трясет совсем не по-норвежски. Оставь напрасные мечты, Кикин, и призови на помощь здравый смысл. Сейчас же объявлю этой команде викингов, накачанных молоком и сыром, что не скажу ни единого слова, пока мне не будет гарантировано присутствие мамули.
В этот момент он понял, что стареет, потому что заметил, что на лице господина Ива Солнье начинают проступать прочерченные временем тонкие линии, придающие человеку какой-то усталый вид. Все молча расселись вокруг стола; адвокаты противоположной стороны в элегантных серых костюмах так же выжидающе, как и монсеньор Вальцер, с некоторым, пожалуй, изумлением поглядывали то на него, то на господина Солнье. Только адвокат Ватикана Ламбертини, одетый не в элегантный серый, а в еще более приличествующий случаю черный костюм и севший за стол первым, не стал озираться по сторонам, а закрыл глаза, как человек, который собирается помолиться. Или вздремнуть.
– Я вынужден, – не терпящим возражений тоном провозгласил Ив Солнье, – выразить решительный протест в связи с заявлениями Церкви, которые являются не чем иным, как клеветой.
Монсеньор Гаус пристально поглядел на Солнье и ответил далеко не сразу, как будто тоже решил поспать за компанию со своим адвокатом.
– Возможно, вам неизвестно, – промолвил он, пробудившись, – что это отнюдь не клевета, а обвинение, основанное на фактах.
– Мы готовы приступить к судебному разбирательству, – сказал ватиканский адвокат, воспрянув ото сна, – со всеми вытекающими последствиями. – И снова погрузился в состояние,