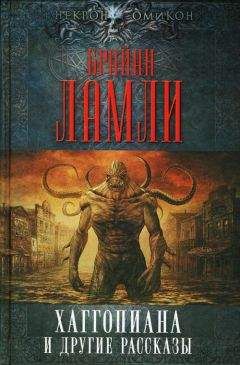формам, вроде всевозможного гнилья и навоза, то червь возносится над ними как символ и предзнаменование более совершенных форм. Несомненно, это момент триумфа данной феноменологии, ибо здесь со всей очевидностью становится ясно, что она позволяет охватить все живое как потенциально мертвое, но при этом несущее в себе возможность снова стать живым, как, например, в случае проросшей из могилы травы. Науке, однако, с этим созданием не повезло, так как с помощью понятия «червь» предпринимались безуспешные попытки объять почти бесконечное множество явлений. Это обстоятельство нашло свое отражение в языке, именно поэтому червь является действующим лицом многих поучительных или же просто образных выражений, выступал тем самым в роли настоящей «звезды» жанра пословиц и поговорок. Значителен вклад этого создания в художественную литературу. Иов, например, именно в образе червя, извивающегося в пыли, воспринимает самого себя. В довольно известной пьесе Вильяма Шекспира не кто иной, как черви едят за ужином одного дворянина, а несколько позже червей обнаруживают в пустом черепе шута. Самого же героя этого популярного произведения постоянно гложет червь сомнения. Однажды он даже вынуждает его сделать заявление вроде «быть или не быть?», что по сути дела представляет собой сформулированную философскую позицию червя в мире (in-der-Welt-sein «Быть во Вселенной» (нем.)). В частности, червь – это существо, которое самим своим происхождением выбирает позицию между живым и неживым, между «быть» и «не быть», и ему, в отличие от большинства других созданий, удается на этой позиции удержаться.
Этим далеко не исчерпываются точки соприкосновения червя и великой философии. Например, любовь между червем и книгами уходит в глубину веков, когда книжные переплеты были деревянными. Позже выяснилось, что червь может съесть практически все, что в состоянии вынести бумага. Черви с равным аппетитом угощаются и книгами самых больших сквернословов и циников, и теми, которые написали утонченные и нежные души. Внешний вид книги для них тоже не имеет какого-то высокого смысла, так же как вряд ли есть какая-то существенная разница между глотанием и чтением. В Кенигсберге черви съели несколько экземпляров «Критики чистого разума» Канта в качестве основного блюда и на десерт одно небольшое по объему, но прекрасное сочинение того же автора о механике неба. А уж черви в виде червя сомнения мучили его самыми разными способами. Современники проверяли по Канту свои часы, поскольку он каждый день в одно и то же время появлялся на главной городской площади, как будто на пари или выполняя некий зарок. Кроме того, можно было предположить, что речь шла о какой-то мрачной игре, которая была видна землякам Канта только через свое внешнее проявление, как феномен. Ессе homo, подумаете вы, вот человек, заводящий себя самого как нюрнбергскую игрушку, которая тем не менее своими четкими движениями участвует в Божественном устройстве и порядке.
Ну, а что потом…
Еще при жизни Канта черви начали есть его лучшие книги, а его самого грыз червь сомнения, заставлявший задумываться: реально ли существование Кенигсберга, людей на площади, приподнимавших в знак приветствия свои шляпы, карманных часов, которые они в этот момент как раз заводили, и, что, конечно, хуже всего, реально ли существование его самого – Иммануипа Канта, книжного червя и профессора?
Граждане Кенигсберга считали своего профессора гарантией мирового порядка и не замечали того отчаяния, с которым он, Иммануил Кант, в движениях их пальцев, заводящих часы, в их взглядах, иногда издевательских, но чаще полных благоговения, искал подтверждения своего существования.
Итак, черви, несомненно, разрушают то пространство, рамки которого очерчивает такой обмен верительными грамотами. Они постоянно подтачивают основы цивилизации, будь то столбы фундамента, на котором стоит Венеция, или музейная мебель в старинном замке, книги, или же написавшие их люди. Удивительные создания – ничто сотворенное не кажется им достаточно совершенным, но и ничто из разрушающегося не разрушается ими навсегда. Крлежа удостоил червя чести быть действующим лицом драмы, причем даже с несколькими репликами. Правда, это гордое создание не оценило столь высокой чести и продолжило питаться книгами великого писателя, а также менее объемными трудами его оппонентов и адептов. О бедный Йорик! Где теперь твой Эльсинор?
Даже съеденный червями, побеждает Полоний. Кто бы мог подумать? Считается, что скрип червя в дереве стола или шкафа предвещает смерть. Однако этот характерный звук происходит из-за того, что червь своей головой бьется о стенки проеденного им хода, чтобы обратить на себя внимание избранницы сердца. Но все же, зачем существо, переваривающее «Критику чистого разума», возвещает о чем-то, что и без того неотвратимо?
Идет ли речь о гибели Империи или о распаде Державы, о раскопе литературы и языка или о том, что пружина часового механизма – вот те на! – лопнула посреди кенигсбергской площади… червь представляет собой образец неизменности и постоянства при всех изменениях, к лучшему или худшему – безразлично.
Несколько смущает, правда, тот образ, который стоит за словами «ничтожный червь». Это попытка языка отомстить червям за их разрушительную деятельность. Напрасно! Пожалуй, нет другого такого слова, за исключением, может быть, еще не рожденного, у которого не нашлось бы своего собственного червя. И каким бы прекрасным это слово ни было, внутри оно все равно с червоточиной. Конечно, можно вообще молчать. Но тогда, в тишине, слышно, причем совершенно явственно, одних только червей.
Так бывает всегда, когда что-то приближается к своему концу, не оправдав надежд.
Самые блестящие страницы любой из созданных к настоящему моменту феноменологий мелкого относятся к описанию муравья. Действительно, граничащее с изумлением удивление Кишпатича по этому поводу поистине безмерно. Вопрос, правда, в том, не повредило ли это объективности научного подхода. В любом случае написанная Кишпатичем апология муравьев достойна всяческого уважения. Однако нас в гораздо меньшей степени радует то, что так восхищало Кишпатича. Этот автор неутомимо перечислил явления и факты, которые казались ему общими для человеческого общества и муравейника, независимо от того, шла ли речь о красных или о рыжих муравьях или даже о безжалостных термитах. У нас же эта схожесть, которую не может отрицать ни одна из феноменологий, вызывает скорее меланхолию. Разумеется, этому чувству, как учат нас старые феноменологи, не следует поддаваться. Феноменология мелкого занимается мелким так, как будто оно крупное, однако феноменолог мелкого всегда сохраняет ясное понимание того, что муравьи, дождевые черви, пчелы, светлячки, улитки и божьи коровки так же, как и их сообщества, существовали бы на белом свете и без нас, феноменологов. Да-да, и если бы не было людей, муравьи точно так же вели бы свои