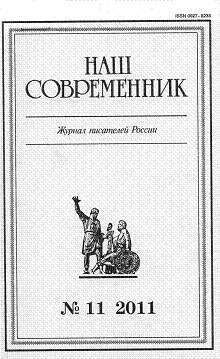советской власти? А Венька Косой, голь-моль и рвань, беспробудный пьяница, в активисты попал. Нахрапистый, наглый как танк. Хвать тятьку за грудки, я кинулся отнимать.
За Веньку вступились эти двое, агроном и инструктор-уполномоченный. Шире-дале, шум. Прибежала мать с подворья с вилами. Инструктор начал палить в потолок из нагана. Тятька выхватил топор из-под печки и кинул в инструктора. Да промахнулся. А может, нарочно, пугнуть, остепенить их. Топор вылетел в окно. Тут народ прибежал, ушли эти бродяги подобру-поздорову, но с угрозами. Тятька мне сразу: «Уходи к дяде, пока не поздно, а мне, видно, сидеть на роду написано». Заплакали мы. Мать завязала мне в котомку хлебушка, яиц, картох, и попёр я задами, дворами да огородами. Через лесок убежал в Сонино. Рассказал я дяде всё, как было. Тот понял: неладное, и подался в Выселки. А с Венькой Косым мой дядя был не разлей вода, неразлучные, лёд да вода — вот беда… С детства. И теперь не могу в точности сказать, то ли дядя помог замять дело, то ли сами агитаторы побоялись дело до прокурора доводить, стрельба была всё же. Ведь, как ни кинь, а пришли по пьяному делу — раз, самогон просили — два, за грудки хватали и стреляли — три. Им, верно, тоже «спасибо» бы там не сказали, свои-то. В колхоз записывай, агитируй, а зачем же за горло хватать? В тот же день тятька мой и заявление отнёс, и скотину согнал на общий двор. А я у дяди-то всё прятался, да так и остался.
Теребя бородёнку, дед дрожащей рукой подлил в остывший чай и мне, и себе, огладил бороду, да и выпил взвар в один глоток, глаза его заблестели. Заговорил он с такой слабостью и таким малодушием, какого я у него и предположить не мог.
— Вот он, Сашка, и век мой. Короток наш век, кажется, и не жил, а только посидел, как ворона на колу.
— Выходит, ты и колхозником-то и не был? А что это такая за присказка у тебя, ты и в очереди всё так-то. Я слыхал: «… за нос водит».
— А судьба, счастье такое кривое. Кривое, выходит, что так. В колхоз не успели записать. Потом уж дядя в депо устроил со снисхождением к малолетству моему и его собственным заслугам. Сначала временно, а потом и постоянно. Так и околачивался при депе до пенсии.
— Но не всё же золотарём, а вон и хлеб возил.
— Хлеб возил — это другое… Да говорю же, без малого… Сначала как-то совестно было по молодости, а потом привык. Прирабатывал даже у деповских. Тогда все частные дома были, огородишки свои имели. Как прижмёт чистить да вывозить — ко мне, а у меня спецбочка всегда на ходу, содержал её, следил за ней, кормилицей. И кобылёнки две были хорошие, кормил их, чистил, запрягал. Значит, Сашка, скажу тебе так: навоз, хоть и человеческий, а это, малый, тоже дело прибыльное. А в помощники к паровозу не пробиться было и тогда.
— Выходит, так, — подтвердил я, думая почему-то о деде Терентии, о том, как он бегал под выстрелы фрицев с рюкзаком на плечах, а потом всю жизнь харкал кровью.
Я проснулся… от ударов колокола. Пела пожарная рында, что ли, оглушала звоном будто рельса, о которой рассказывал дед Кузьма. Я лежал, не открывая глаз, различая звуки. Они плыли разные. Язык колокола с тяжким усилием раскачивался и ударял. И звон этот, мощный и прекрасный, заполнял пространство. Нескольких тяжёлых ударов языкастого гулкого колокола «Илья Муромец» — и вот тотчас весело и совсем пасхально-радостно завелись, запели ангельские подголоски во всём множестве.
Я совсем проснулся от колокольного, как я стал понимать, звона, и лежал так, не шелохнувшись, в недоумении, пока Кузьма не грохнул дверьми, кинул охапку дров на пол у печи и тряхнул меня за плечо.
— Вставай-ка да на-ка вот чаёк. Чай попьёшь — орлом летаешь, водку пьёшь — арык лежишь. Заслужили и угощение, конфетки сладенькие. Если бы не ты, Сашка, не дошли бы вчерась. Пей, пей, зажуй-ка. Как говаривал твой дед, пей да дело разумей. А что, правда! Вот колокол — просто машина, железо, а известно: на десять вёрст в округе бесов разгоняет. Мне, когда тяжело или недоумение, я всегда колокола включаю, благовест. Слышишь, как поёт?
Как долго, десятилетия заглушали колокола России! И вот снова полились эти звоны, золотые, малиновые, разные. Когда колокола исполнили последнюю мелодию и стали затихать, и звонари в моём воображении уже спустились со звонницы, я, уже совершенно проснувшись, мысленно приложил ладонь к колоколу. Могучий колокол продолжал жить и вибрировать звуком, точно радуясь возвращённому дару, точно ему хотелось звонить и звонить ещё и ещё.
— Откуда это чудо, Лукич? Я думал, мне мерещится.
— А вот техника, Санька! Лазерный магнитофон, слыхал про такое? Включил — и как в церкви. От так-от кнопочку — чик. Звони-ит. А? А так — вон, ещё громче звонит, ровно ты и сам на колокольне. Забрался — и там. А тут на кнопочку нажимаешь — он «волны» ловит. Вражьи голоса, Америку, Германию. И ты знаешь, что? Все и там бают на русских языках. Сам-то я его, конечно, бы не купил. Лазер-то, куда. Да ты, может, не знаешь? Ведь он тут жил, в Выселках, Витька, после освобождения. Вот и приёмник — память от него.
— Так что, дед, Витька Сорока освободился, приезжал к тебе? Так, что ли? Когда? Это его приёмник?
Сорока был другом моего детства. Перевернув радужный диск, я прочитал на наклейке-ярлычке: «Колокольные звоны России, Звонница Успенского собора Ростовского Кремля». И дальше: «Благотворительный фонд «Православное видео»… Телефон, факс…
— Так он где был, всё сидел, что ли? Ведь я лет пять назад писал ему «туда», приглашал в гости, хотел трудоустроить.
Дед притих. Помедлил, словно прислушиваясь сам к себе или боясь задеть за живое, ответил:
— Оно, конечно. Ты, может быть, не знаешь ещё.
Витьку я знал с детства. Беловолосый, курчавый, это был необычайной красоты и силы малый. Волосы вились у него по плечи, как у былинного богатыря. Я узнавал его за версту по этим волосам и широкой походке. Когда, тренируясь, он подтягивался на турнике, сбегались смотреть: такой природной силы был этот парень. Подтянуться мог на левой руке, затем на правой. И отжимался так же: то на одной, то на другой, по очереди. Родители отправляли меня в деревню, отпрашивая у директора школы