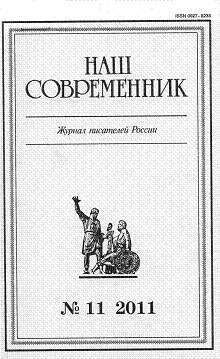помнить: «Я, дед, больше не сяду. Никогда не сяду». Слух вскорости прошёл: он там, на решётке окна. Вот дела какие.
Поминали Витьку. Слушали звоны. Московские, ростовские… И всё звонили-гудели, ныли, жаловались колокола. Ростовский знаменитый колокол «Сысой» так гудел, казалось, вынимал душу. Я скинул громкость, но и на крайнем пределе, со сброшенным звуком так били и били-говорили звоны колоколов, выжимали слезу.
В последнем письме Витька писал мне, что, если не возьмут его контрактником, то уедет он в город Псков, в монастырь, в Печоры. Не добрался парень до Пскова. «Во Пскове, — писал он, — даже песочек в пещерках святой, его с пищей приемлют».
Слабый утренний рассвет сочился в окна, когда бабка Лиза отчаянно застучала в дверь с криком: «Откройте, откройте!» Я вскочил с дивана, вбил ноги в валенки и, накинув полушубок, выбежал в сенцы. Бабка Лиза, видно, уже намучалась за ночь, сообщила осевшим голосом:
— Померла Акулина, Царствие Небесное… Нагадал Кузя. И не поговорила я с ней, не в своей памяти скончалась.
Дед Кузьма, как был — полуодет, отставил стакан и лёг опять.
— Силов нет, поясница гнетёт, — заявил он.
Бабка Лиза страдала от сердца, и тем резче, необъяснимее, контрастнее, что ли, «объявился» Кузьма.
— Два раза к вам приходила утром, стучала, стучала. Так вы ведь так колокола свои включили, что святых выноси. Тут вам ай церква. Бывает звон церковный, а бывает бесовский. Вот бесы-то и не давали мне до вас достучаться.
— Ну, будет буровить-то. Померла — похороним. Не впервой. Я тут всех стариков похороню, один останусь, как перст. Вот и поцарствую. В любой дом заходи, чего хочешь бери. В ремонте опять сподручно: лампочка, скажем, сгорела или петля на двери подломилась — звон какой выбор. Сколько изб, и все пустые.
Мы вышли на улицу, было морозно и ветрено. Вставал мрачный рассвет, рождалось запоздалое утро.
— Отмучилась, болезная, — сбивая с валенок снег на крыльце Акулины, тихо сказала Елизавета. — Давно заболела, сердешная. Всё равно никакие врачи не могли бы помочь. Старость нынче страшна!
— «Страшна», слышь, Сашка, не то слово!.. Только теперь поняла?! — сурово отметил Лукич. — Интересные люди, право слово. С интересными людьми я, Сашка, прожил. И ещё отметь: опять у неё надежда. Сначала — поп, теперь — «врачи». А ты знаешь, от какого слова это «врачи»? Вот я тебе скажу и последнюю, так сказать, надежду отниму: врачи — от слова «врать»! Сначала лечить не умели, не было лекарств, всё травы собирали да камни прикладывали, куриный помёт, заговаривали раны. Заговоры их и называли «вранье», а знахарей — врачи. Ну, дело пошло. Опять же деньги, нажива. А на лекарях так имя и осталось: к ним так и прилипло звание — «врачи». А я знаю только одно средство от болезней, самое верное — кровь пущать. Или выпить вот настойки рябиновой. Тоже.
Как всегда, с трудом отвалили избяную дверь на одной петле. Мрачный свет чадящей висячей лампы еле-еле освещал печь, косо осевшую на половицы кухни. Низкий потолок, прокопчённый до черноты, блестел испариной. В переднем углу горела лампадка на трёх цепях, светом неверным и прядающим.
Дед Кузьма снял лампадку, взял зеркальце со стола и полез на печь. Спускаясь, он вдруг удивил меня своей набожностью, опустился на колени перед иконами в красном углу и долго истово молился, мучительно медленно крестился, говорил, не спуская глаз с иконы Спаса Нерукотворного: «Не по грехам нашим, а по милости Твоей, спаси нас и за всё прости…» Бабка Лиза смотрела на Кузьму искоса и тоже тяжело и мучительно опустилась на колени, подобрав юбки. Молились так искренне, что и я был поражён как бы духом сущим, правдой слов, коснувшейся меня самого.
Вставая, охали от болячек. Акулину перенесли с печи на кровать. Бабка Лиза закрылась, занялась обмыванием и переодеванием умершей, а мы с дедом принялись искать доски на гроб.
Двор, хлев и сени — всё было осмотрено самым пристальным образом, но не оказалось даже и близко тех досок, которые требовались.
— Шаром покати, — заключил дед, закуривая, — как у святой…
Закуток для поросёнка был разобран и наполовину сожжён в печи вместо дров. Тут дед начал охать и вздыхать, и я догадался: жаль ему отдавать свою домовину, а не миновать. Дед был неплохой плотник и старался, подгонял доска к доске. А теперь — на вот, возьми и отдай совсем с такой любовью сотворённый гроб. Обошли все задворки, постройки и даже залезали на сушила двора бабки Лизы.
— Нету! — кричал я оттуда Кузьме. — Ничего подходящего!
— Ась? — переспрашивал он, точно не веря, не желая верить своим ушам или нарочно придурковато, обдумывая что-то своё, гоняя свои сокровенные думки. — Ась? Не видать? А ты порой, порой там, под сеном-то. Поковыряй мал-мала. Я, даве, сунулся у себя-то, знаешь, какой горбыль нашёл. Из него и домовину совостожил. Находка и на ум навела. Рой, рой, копай.
Ясно было, что дед Кузьма израсходовал все доски на домовину. Не нашли и у Лизаветы. Заглянули ещё в три заброшенные избы, но и там не обнаружили.
По улице косо полетел редкий лёгкий снег, всё крупнее и безнадёжнее, ложились хлопья под ноги, забивались под воротник. Перед полуднем стало теплее. Низкое серое небо как бы опускалось всё ниже и мрачнее, и дали задёрнулись непроглядной серой фланелью оттепели, идущей на нас сплошным фронтом. Всё кругом казалось теперь грифельно-чернее на фоне белого, как смертный саван, снега. Было безропотно, грустно и мрачно. И эта безнадёга, словно оторопь, брала в плен. «Не спастись ни одной душе в этом, этаком мире», — приходило на ум, и душа притихала замёрзшим за пазухой голубем…
И вдруг, будто сам себе, словно оглянувшись на этот мир с высоты полёта, отвечал Лукич:
— Спасёмся все! Не дрейфь, Сашка!
Даже оторопь взяла, он словно прочитал мысли. А может быть, просто подумал о том же вслух?
В полдень бабка Лиза повела нас хлебать щи, помянуть усопшую. Акулина лежала уже убранная. За обедом никому не хотелось говорить ни о чём, всё только думалось. Наевшись, Кузьма Лукич промокнул губы скатертью.
— Ну, вот оно и ладно, земля ей пухом. Ничего ей теперь не надо. А, кажись, недавно бегала, всё чего-то хлопотала, свинину искала в соседней деревне. Кому-кому, внукам. Их только прикорми. Так и будут рот открывать, как кукушата в чужом гнезде: «Корми!» Уж я-то знаю. За её задаток ей одних рёбер и нарубили. Да голяшек вон я принёс