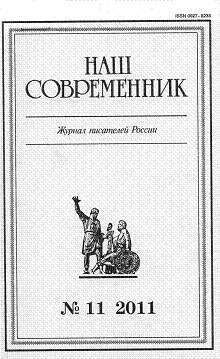всю-то деревню.
Пронзительный, как сверло, голос бабки Лизы нестерпимо резал мозги и сердце.
В этих причитаниях на старинный лад слышалась какая-то жгучая, безнадёжная правда, жалость к себе, ко всем живущим, и жалоба на нищее и одинокое существование. Какой-то эпический трагизм судеб людей среди сугробов, нищета и тщета жизни.
Начали прощаться с Акулиной, и бабка Лиза уже завыла — не остановить. Дед начал бормотать:
— Ну, будя, будя, болезная. Прости, Господи, люди Твоя. И благослови достояние Твое. Не по грехам нашим, а по милости Твоей. Прости и ты, Акулинушка. Если б не матушка твоя тогда, укатили бы в город из этих Выселок, пропади они пропадом, по-другому бы всё и вышло. Прости-прощай.
И тут любопытная бабка Лиза вдруг смолкла, дёрнула по глазам рукавом плюшевого полупальто и посмотрела на Кузьму своими ясными серыми глазами. Дед пощипал-пощипал бородку, поправил подушку под головой покойницы, смахнул завиток стружки с её груди. Вытащив из кармана гвозди, зажав лишние во рту, начал деловито и умело заколачивать гроб, с удивительной ловкостью. А заколотив, поискал глазами сумку, висевшую на сучке рядом, вытащил водку, глотнул и поставил себе в боковой карман, чтобы грелась до поры. И когда подровняли бугорок могилы, бабка Лиза повесила на крест собственноручно сделанный венок из бумажных цветов.
Мы двинулись в обратный путь мимо полузанесённых памятников, крестов — этого селения мертвецов. Сколько тут известных и неизвестных трагедий хранится под снегом и мёрзлой землёй! Вот пожелтевший медальон юноши — застрелился в лесу из охотничьего ружья. Двое мальчишек лет десяти играли в охотников и зайцев. Один из них снял со стены ружьё старшего брата и убил наповал второго «зайца». Женщина, уже не молодая, облила себя бензином и подожгла. Смерть наступила в муках, потом пожар, тут же, в предбаннике… На свадьбе гуляли, пили самогон, — сгорел от сивухи запойный молодой тракторист, так и не отпоили молоком. Старуха турила самогон да меняла его на дрова и зерно у заезжих механиков. Бабка хозяйственная, характерная, крепкая, как объясняла бабка Лиза, но сама «вружилась» и в запое умерла от сердца, неделю пролежала на своей печке, пока хватились её. Тракторист лет двадцати ехал пьяный на тракторе и не мог миновать оврага, перекувырнулся вместе с трактором, придавило колёсами. Бабка Лиза останавливалась возле могилок, смахивала снег с крестов и памятников, подкладывала корочки хлеба птицам, щепотки пшена — для того и припасённые, чтобы помянуть, — да крошила блинцы на пшённой кашке. Рассказывала, кто и какой смертью умер.
— Акулина счастливая, — заключила она, и в словах её, тоне, самой интонации голоса я не услышал, к удивлению моему, никакого лукавства. Мало того, почудилась зависть к такой смерти. — Она счастливая: своей смертью умерла и на своей печке. Мне бы так-то. И похоронили честь честью, и помянули. Даже есть вот и помянуть, и на девятины тоже есть чем. А нынче — студень я наварила, кисель овсяный с сытой, то бишь со сладкой водой на меду.
— Похороним и тебя, не горюй больно-то, знать, не твоя была очередь. Только уж гроба такого я тебе обещать не могу, — начал пошучивать дед. — Да и себе тоже. Но если ты вперёд помрёшь, и ты будешь такая же счастливая, как Акулина. А вот уж если я помру последним, нескоро придумаешь похоронщика.
— Да рази я одна-то, — проговорила бабка Лиза, — но лучше об этом не говорить, авось Бог милостив.
Поминали в Акулининой избёнке. Избу подмели, образили. Ввернули большую лампочку, в лампадки долили масла. За окном было уже и вовсе невпрогляд, когда мы управились с делами, разложили варежки в печурке да развесили одежды. Бабка Лиза собрала на стол:
— Да ить святки! Святые дни. Ой, нет, нет, милостив Бог к Акулине. И похоронили, это… С родителями. С одной стороны рябинка, с другой — черемуха. Подальше от дороги — как хорошо лежит-то…
— И чего ж ты? Завтра едешь в Москву? Твёрдо решил? — спросил меня дед Кузьма.
Я твёрдо решил не испытывать больше судьбу, ехать.
— Отпуск мой кончился. Был нужен здесь, вот и оставался, — ответил я.
Мне было неприятно это напоминание о том, что предстояло, как ни крути, — ретироваться, хотелось уйти и от разговора, и от объяснений. Я спросил набожную бабку Лизу:
— Почему на Рождество к столу подают гуся и свинину в первую очередь?
— А поделом им. Когда Господь родился в вертепе, как бы во дворе, так по вере — они спать не давали, гуси гоготали, свиньи хрюкали. Ни Господу, ни Приснодеве Марии не давали уснуть.
Я поймал на себе угрюмый взгляд деда Кузьмы:
— Тяжело до тракта добраться по бездорожью.
Помолчали. Старики стали мне за это короткое время точно родными.
— Тяжело, так что помни моё: лапти! В лаптях до большака, как мы и шли, милое дело. А там можешь и похерить, выбросить их. Наденешь свои городские ботинки. И всё.
Выпили по первой, после второй я уже услышал от бабки Лизы:
— Нет-нет, мне по Марьин поясок, чтоб жизнь полнее была.
— Вот дикий народ, да ай от этого зависит? Счастье-то? Ну, ладно, с Богом, земля пухом и Царствие Небесное, как говорится, из роду в род, — не жадничал Кузьма.
Разговор завели про Акулину, про её похороны и какие мы всё-таки молодцы. Бабка Лиза раскраснелась, бегала в кухню за закуской, подавала хлеб.
— Акулина молодая — весёлая была, не велела плакать.
— Да ты её молодой-то ай помнишь? — не унимался и дед Кузьма.
— А как же не помню-то, ты что, Господь с тобою. Я не какая-нибудь бестолковая да беспамятная, я бядовая. Я в трактористках была! — запела: — Трактористкой я была и под трактором спала.
Бабка Лиза не обиделась, засмеялась разливисто и громко и начала уже в который раз рассказывать всё об одном, всё о том же, как работала на колёсных тракторах, тех, что ХТЗ обзывались.
Я слушал и не находил утешения, гнал думы о Москве. О её театрах, казино и ломбардах. О Тверской, где с удалью проносятся на автомобилях лихачи, везущие новоявленных господ в новоявленный «Яр», в недавнем прошлом — ресторан «Советский».
Утром следующего дня я поднялся поздно. Стояло будто бы всё то же утро, надоевшее, со снегом. Серой дымкой заволокло окрест. Снег не падал, а как бы только грозил падением. С тяжёлой головой, собрав свои нехитрые пожитки, я стал раздумывать, чего бы и впрямь обуть мне и как по бездорожью пробиться до большака. Не надевать же и впрямь лапоточки в век компьютеров и жидкокристаллических