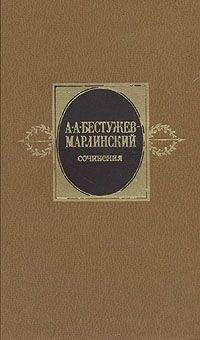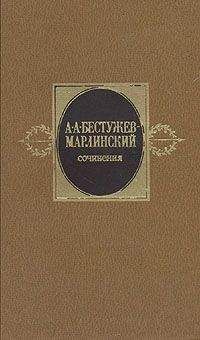— И мечтой моей наяву были — вы. Я любовался вами, прекрасная графиня, когда, склонив очи к земле, будто озаряя порхающие стопы свои, вы, казалось, готовы были улететь в свою родину — в небо!
— О нет, нет, дон Алонзо! Я бы не хотела так неожиданно покинуть землю; мне бы жаль было оставить родных и добрых моих знакомых. Нет, благодарю покорно!.. Взрыв вашего воображения закинул меня слишком высоко. Вы поэт, дон Алонзо!
— Не более как историк, графиня… беспристрастный историк… — возразил испанец, скидывая перчатку с левой руки, потому что в это время танец уже кончился. Невольное ах! вырвалось у графини, когда в глаза ей сверкнул перстень испанца. По нем она узнала Гремина. С сильным волнением сжимая руку маски, она произнесла:
— Историк должен помнить, где и от кого получил он перстень с небольшим изумрудом; он должен помнить, как виноват он перед…
Графиня не успела кончить слова, как отъезжающие маски почти увлекли с собою испанца. Он едва мог у ней попросить позволения явиться на другой день для объяснения загадки.
— Я этого требую, — отвечала графиня. И незнакомец исчез как сон. Котильон и ужин показались ей двумя вечностями. Она была задумчива, рассеянна: отвечала нет, где надобно было говорить да, и мне очень жаль — вместо я очень рада. «Она хочет нас мистифицировать», — говорили между собой модники. «Она, верно, гадает о суженом!» — подумала горничная Параша, когда графиня, приехав домой, опустила тафтяные цветы свои в серебряный умывальник, а бриллиантовые серьги заперла в огромный картон.
Если б кто-нибудь догадался сказать: «Она влюблена», тот бы, я думаю, ближе всех был к истине.
Для нас, от нас, а, право, жаль;
— Ребра Адамова потомки,
Как светло-радужный хрусталь,
Равно пленительны и ломки.
Лучи холодного солнца давно уже играли по алмазным цветам цельных стекол графини Звездич, но в спальне ее, за тройными завесами, лежал еще таинственный мрак и бог сна веял тихим крылом своим. Ничего нет сладостнее мечтаний утренних. Первая дань усталости заплачена сначала, и душа постепенно берет верх над внушениями тела, по мере того как сон становится тоньше и тоньше. Очи, обращенные внутрь, будто проясняются, видения светлеют, и сцепление идей, образов, приключений сонных становится явственнее, порядочнее, вероятнее. Память не может вполне схватить сих созданий, не оставляющих по себе ни праха, ни тени; но это жизнь сердца… оно еще бьется, оно еще горячо их дыханием, оно свидетель их мгновенного бытия. Такие мечты лелеяли сон Алины, и хотя в них не было ничего определенного, ничего такого, из чего бы можно было выкроить сновидение для романтической поэмы или исторического романа, зато в них было все, чем любит наслаждаться юное воображение. Начальные грезы ее были, однако, менее цветисты, хотя очень забавны. То около нее кружился чудесный вальс, составленный из эполетов, аксельбантов, султанов, шпор и орденов… вся лавка Петелина танцевала казачка. То, казалось, она подавала пилюли покойнику мужу; то снова погружалась в баденские воды, будто в поток забвения… И вдруг стены третьей станции вставали около нее с лубочными своими портретами, на которые глядит она, переписывая давно нам знакомое послание, и вот, кажется ей, один портрет мигает ей очами, улыбается, усы шевелятся; он готов выпрыгнуть из рамок, но она сама кидается к нему навстречу… «Это вы, Гремин!..» — вскрикивает графиня. «Нет, это Блюхер». И снова гремит и мчится котильон, и снова слышатся ноты французского кадриля… Какой-то незнакомец, в испанской мантии на гусарском доломане, приближается к ней и… Но перечесть все вздоры, которые мы видим во сне, значило бы бредить наяву, и потому я скажу только, что часы добивали десять, когда колокольчик графини слился с последним их ударом.
Параша распахнула внутренние ставни, отдернула занавесы и уже несколько минут стояла у ног кровати с раскинутою шалью, но Алина Александровна изволила еще почивать с открытыми глазами, еще на кругу ее полога мечты проходили, подобно фантасмагорическим теням.
— Он приедет, — наконец весело произнесла она, сбрасывая одеяло, — он скоро приедет.
— Кто, ваше сиятельство? — простодушно спросила служанка, помогая ей одеваться.
— Кто?.. — Графиня задумалась. Она чувствовала, что на простой этот вопрос не могла отвечать утвердительно. — Увидим! — отвечала она со вздохом. — Накажи только швейцару, что если приедет молодой гусарский офицер, которого он до сих пор не видал, то просить его наверх без всяких докладов. Всем другим отказывать. Слышишь ли, Параша?
— Слышу, ваше сиятельство; только не понимаю, — прибавила Параша потихоньку.
И сама графиня худо понимала, что с нею сталось. За чашкой чаю и за туалетом она имела довольно времени обдумать о минувшем и настоящем. Она была в большой нерешимости, как встретить человека, который был так близок ей во дни неопытности, когда всякий прыжок сердца кажется любовью, каждый конфектный девиз — изъяснением и первое милое личико — любезным предметом, — человека, забытого ею так скоро в рассеянии забав и путешествий и к которому вдруг, в один вечер, привязалось сердце ее вновь, со всем пылом новой страсти, со всею свежестью мечты, доселе ею не изведанными! Странность ли его появления, таинственность ли его поступков, воспоминание ли прежнего или беспричинная прихоть, только графиня чувствовала, что это похоже на любовь. Но всего страннее было колебание ее между известностью и сомнением о замаскированном испанце. Она звала его Гремин, а думала о ком-то другом; ей нравилось именно то, чего никогда не замечала она в Гремине; ее пленили новость и разнообразие разговоров и познаний маски, так что она едва не желала знать испанца всегда испанцем, чем увидеть в нем Гремина. Она кончила, однако ж, заключением, что свет и опыт удивительно как развертывают молодых людей и что любезность Гремина достигла теперь полного цвету… «Но я должна со всем тем наказать его, как беспечного поклонника и как недоверчивого хитреца. Вы испытаете, князь, что и я недаром прожила три года на белом свете, с тех пор как и мы жили в Аркадии: я буду с вами холодна — и холодна как мрамор».
— Однако ж который час, Параша?
— Три четверти первого, ваше сиятельство!
— Эти часы ужасно отстают, Параша. На моих уже пятьдесят минут первого.
«Ваши часы идут заодно с сердцем, подле которого лежат они; любовь — прилипчивая болезнь, ваше сиятельство», — сказал бы я графине, если б я был ее служанкою, но судьба создала меня только покорным слугою прекрасных, и я должен часто молчать, когда мог бы ввернуть словцо очень кстати.
Между тем Параша, окончив свою должность при туалете, вышла; но графиня все вертелась еще перед трюмо в прелестном утреннем платье и, подобно поэту, который точит и гладит стихи свои, чтобы они по легкости казались прямо упавшими с пера, разбрасывала каштановые кудри по высокому челу с утонченною небрежностию. Крепко забилось сердце ее, послышав скрип колес по морозному снегу и тройное падение подложки у крыльца. В ту же минуту Параша, запыхавшись, вбежала в комнату.
— Приехал, ваше сиятельство! — сказала она.
— Чему же ты обрадовалась? — возразила графиня о притворным равнодушием. — Дай мне платок и скляночку с духами.
Параша безмолвно повиновалась, и графиня принуждена была сама спросить ее, хотя ей очень того не хотелось.
— Разве ты его видела, Параша? — сказала она ласковее, набрасывая шаль на локти.
— Мельком, сударыня; а не нагляделась бы на него; уж можно сказать — молодец. Строен, высок и лицом будто красная девушка. Голубые его глаза больше ваших браслетных яхонтов, ваше сиятельство, а светлые кудри и белокурые усы его вьются колечками.
— Светлые кудри, Параша? Ты, верно, ошиблась: у пего волосы чернее моих!
— Может статься, и ошиблась, ваше сиятельство; он был тогда в шляпе, и я загляделась на прекрасный султан, — так и зыблется до самого воротника!
— А воротник его коричневый, не правда ли, Параша?
— Коричневый, ваше сиятельство… Я не видала гвардейских офицеров с такими воротниками, — однако ж он, верно, гвардеец… У него такая прекрасная карета…
— Это он, — произнесла графиня, не слушая ученых замечаний своей горничной, и решительно протекла все комнаты до гостиной. Но когда должно было ступить туда, бодрость ее оставила, и она долго держалась за позолоченную ручку дверей, припоминая, какое лицо должно ей принять и что говорить. Наконец дверь распахнулась, и графиня, опустя очи, вошла в гостиную, краснея подняла их, — и что же? Перед нею стоял белокурый гусарский офицер, но вовсе не князь Гремин. Быстро сменялись розы и лилии на щеках графини, — она неподвижно глядела на незнакомца… Но он, вероятно более приготовленный к подобной встрече, после обычных поклонов первый прервал молчание: