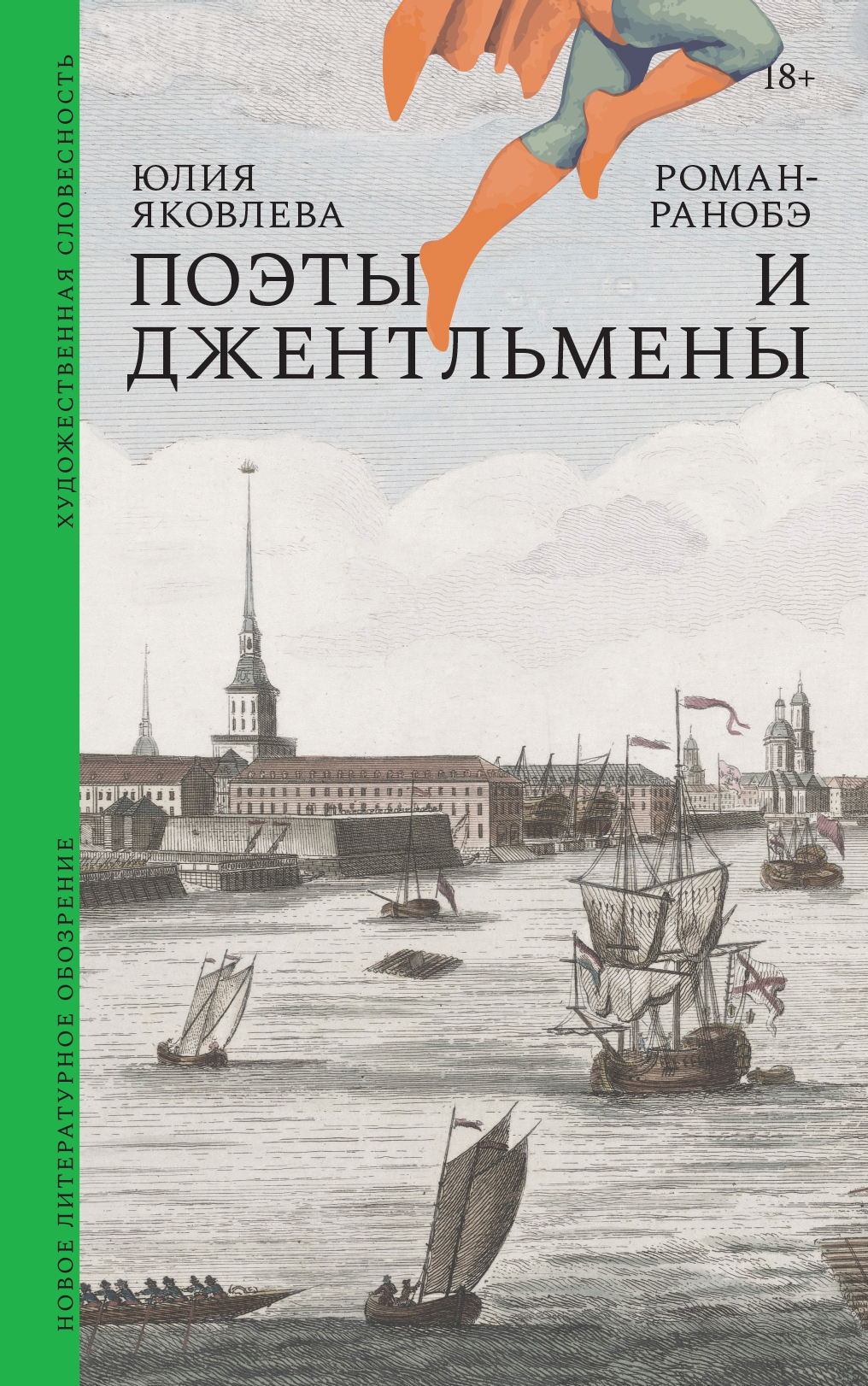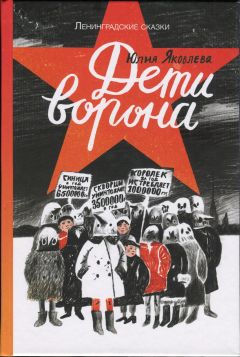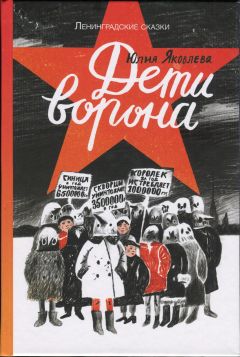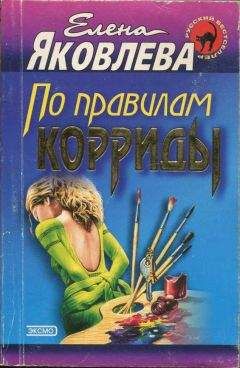Джейн, вы здоровы?
Она покачала локонами:
– Боже мой… как утомительно… иметь дело с… м-м-м… не очень талантливыми людьми. С эпигонами. Пытаться понять ход мысли посредственных писателей. Пытаться предугадать посредственность. Я начинаю опасаться, не может ли быть так, что посредственность заразна.
Она потерла виски. Мэри фыркнула:
– И господин Пушкин считается у них лучшим!
Радклиф не смогла промолчать:
– Да, но некоторые вещицы мистера Гоголя в жанре ужасов были недурны.
– Откуда вы знаете, милая Анна? Вы уже выучили русский?
Та поджала губы. Шелли сочла это знаком капитуляции.
– Простите, Анна. Черный кот – это не «недурно». Это банально.
– Бедные самодовольные болваны. Хорошо. Давайте посмотрим на театр военных действий.
Стуча по паркету кольцами кринолинов, дамы оживленно поднялись, обступили письменный стол мистера Сеймура. На нем была расправлена карта Черного моря. Ада тихо подошла. Остин ощутила лишь ее дыхание позади своей шеи. Заговорила, показывая на карту:
– Красные булавки – это наш доблестный паровой флот. Синие – союзный французский.
Жалкой горсткой жались у Sevastopol самые дешевые, с металлическими ушками. Это был русский флот. Парусный, технически отсталый, он не стоил большего. Остин принялась вынимать эти булавки и втыкать их на суше:
– Русский флот потоплен, но матросы и пушки переведены в город.
Дамы изучали галантерею.
– Неужели наши войска обратила в бегство обычная кошка?
– Как вообще кошка может кого-то спасти или погубить?
– Кроме как перебежать дорогу, да и то, если человек невежественен, как сапог.
– Что, Джейн? Почему вы нахмурились?
– Командующий нашими войсками в Крыму – лорд Реглан. Он… боюсь, несколько суеверен.
– О.
– О.
В глазах Ады блеснуло некое оживление.
– Я могла бы… – заговорила она.
Но Радклиф уже ловко оттеснила ее колоколом своего платья от стола.
– Милая Джейн. – Воодушевления в голосе Анны было столько, что обычная ложка яда растворилась в нем, почти не изменив вкус. – Полагаю, вы возьмете на себя то, в чем нет равных вам.
– Женщину! – догадливо предположила Шелли.
– Женщину? – обхватила пальцами подбородок Остин. Но на сей раз жест этот был подлинным, его не заметила она сама.
Радклиф заговорила возбужденно:
– К черту технический прогресс. От него никакого толку, вы сами убедились. Джентльмены, может, и разбираются в технике. Но джентльмены, милая Джейн, совершенно беззащитны перед женщиной. Уязвимы. Они безнадежны.
– Может быть, если Ева… – в последний раз подала голос Лавлейс.
–Мне всегда нравились ваши героини, милая Джейн, – лила мед Радклиф. Но сладость его была настоящей. – Сочините им женщину, которая…
Но Остин не слышала. Она уже видела будущую историю, как летящий ястреб видит землю с высоты: целиком до горизонта и во всех деталях.
– Выйдем, – прошептала остальным Радклиф, продевая одну руку под локоть Мэри, другую под локоть Ады и увлекая обеих за собой. – Нам не должно видеть то, что здесь случится дальше…
У самой двери Мэри все же обернулась. Джейн оперлась руками на стол – локоны повисли над картой. Булавки усеивали топографическую местность, как куклу проклятого в ритуале вуду. Но и карту Джейн не видела. На лице ее проступило мечтательное сладострастие творца.
Никто из них не обратил внимания, что Ева так и не принесла лимон.
***
– Смотри, куды прешь! – заорал извозчик.
Пушкин отпрянул. Машинально проводил взглядом конский круп, истукана на козлах, истукана-пассажира. Перебежал мостовую. Трость его стучала по торцам.
Садовая улица в этот час дня представляла собой обычное целеустремленное месиво из экипажей, телег, пешеходов, подогретое близостью торгового Гостиного двора с одной стороны и Апраксина – с другой. Ближе к Апраксину, или Апрашке, как его называли, толпа была беднее и грязнее (и далее плавно и быстро вы спускались уже на самое общественное дно Сенной площади). Зато ближе к Гостиному, а точнее, Невскому проспекту и Аничкову дворцу, который так нравился императору, то есть на поверхности, можно было заметить даже и сливки общества.
Таким образом, у улицы, растянутой справа налево, были еще верх и низ. Что, впрочем, нимало не озадачило бы тогдашнего казанского профессора Лобачевского, привычного и не к таким шуткам пространства.
Колеса трещали. Извозчики покрикивали. Разносчики расхваливали товар. Лошади валили из-под хвоста навозные яблоки. И даже солнце как-то умудрялось добавлять уличного шума.
Любому обитателю европейской столицы бросилась бы в глаза особенность этой толпы: в ней почти не было дам. А те, что изредка мелькали – как правило, на полпути между входом в лавку и выходом из коляски, – были в сопровождении слуги.
Поэтому никто не обратил внимания на невысокого господина в цилиндре и с тростью. Да и с чего? Единственным в нем примечательным было сочетание смуглой кожи с ярко-синими глазами. Но для этого пришлось бы заглянуть ему в лицо, а петербуржцы традиционно избегали встречаться глазами. Хоть на дне общества, хоть на его вершине.
У решетки Воронцовского дворца господин в цилиндре замедлил шаг. Это была его последняя, четвертая остановка на привычном маршруте. «Я счастливый отец, – так же привычно подумал он. – Все мои четверо детей – выжили». Было чему радоваться. У Вяземского, например, все померли.
Сам дворец был почти не виден – отступил от улицы в глубину густого сада. Семейство Воронцовых давно его оставило. Здесь размещался Пажеский корпус. А в садах небезмятежно расцветали будущие императорские пажи, гвардейские офицеры и просто уж такие цветы зла, какие и не снились обывателям. Учебное заведение было закрытым. Известно, что самые вонючие орхидеи предпочитают сумрак и не терпят свежего воздуха. В высоком светском кругу считалось, что обычаи Пажеского корпуса закаляют характер, а потому среди воспитанников были отпрыски лучших российских фамилий.
Но синеглазый господин смотрел не на драку. Глаза его были прикованы к смуглому голубоглазому мальчику в стороне. Тот на ходу читал. Жадно вбирали каждую черту. Каждое движение умиляло. От каждого знакомого жеста сердце давало перебой. «Что же он читает?»
– Пушкин! – заорал в саду какой-то прыщавый юноша.
Господин в цилиндре вздрогнул. А смуглый юноша вскинул подбородок. Уронил книжку. Сжал кулаки.
Пушкин у решетки невольно сделал то же самое.
Шли на него двое. Шли вразвалочку, как будто им мешали собственные яйца. Смуглый юноша смотрел на них исподлобья – высчитывал дистанцию поражения.
– Что ж это, Гришенька, – обратился прыщавый. – Вы не пожелали вчера поучаствовать в вечернем цирке?
Наподдал – и книжка отлетела, взмахнув крыльями.
– Может быть, вы не бугор? – светски предложил разгадку второй.
Смуглый юноша выбросил вперед кулак. Сердце у господина в цилиндре забилось в горле. Сглотнул его. Прыщавый схватился за нос. Из-под ладони побежала юшка. Двое бросились на одного. Запыхтела неравная схватка, размеченная смачными ударами по мягкому лицу, как стих цезурами.
Господин в цилиндре схватился за прутья решетки. Но что он мог сделать? Или мог? О, проклятая клятва.
А прыщавый уже гнул Гришу Пушкина за шею к земле.
– Корф! Васильчиков! – заверещал, прыгая с крыльца, какой-то мальчик в мундире. – Бьют!
В несколько мгновений драка стала многорукой, многоногой.
В воздухе мелькали аристократические кулаки. И дядька-воспитатель с крыльца, и караульный