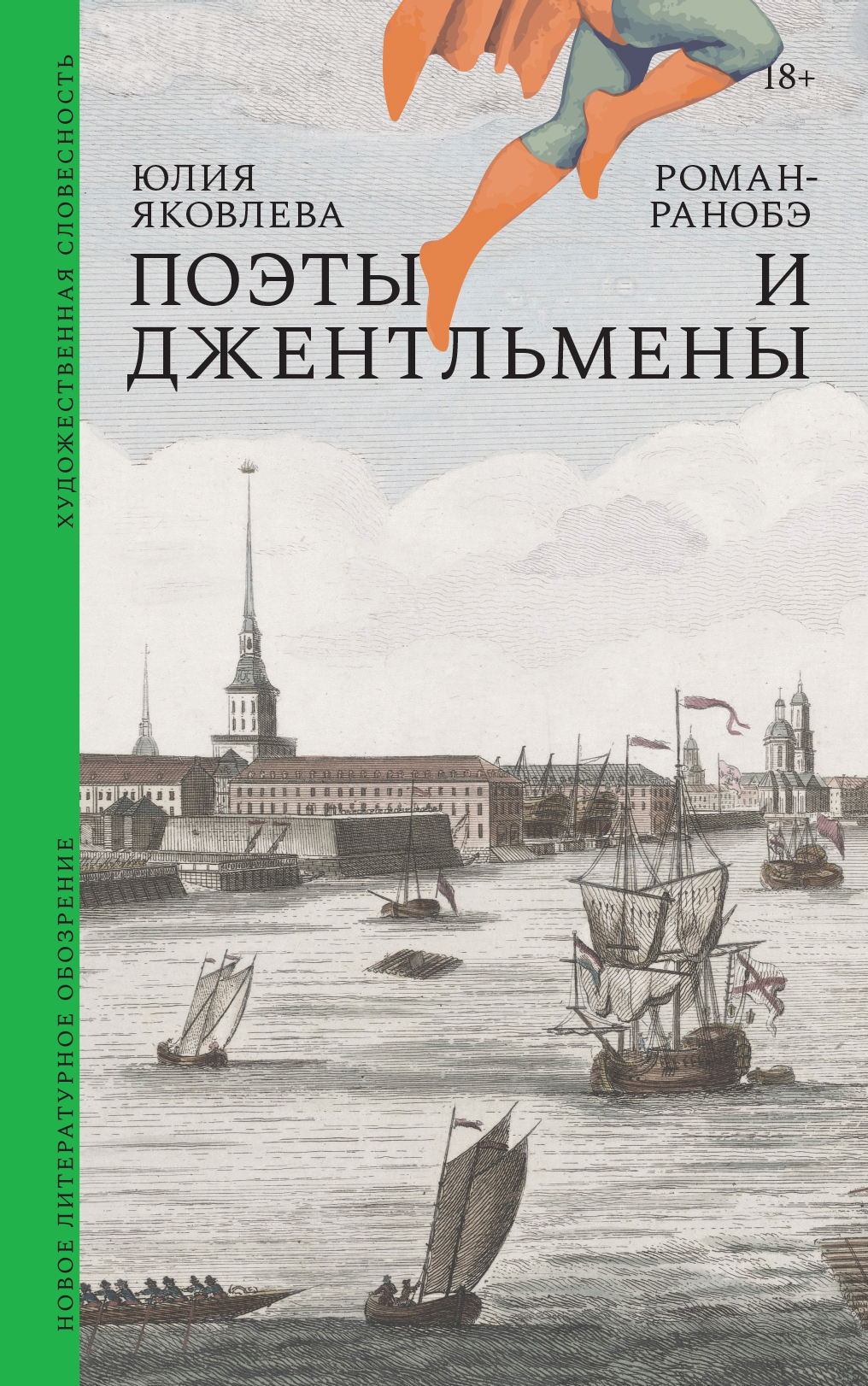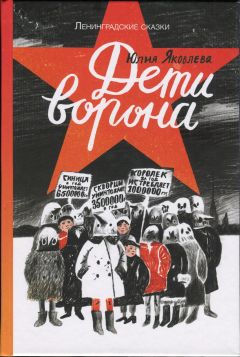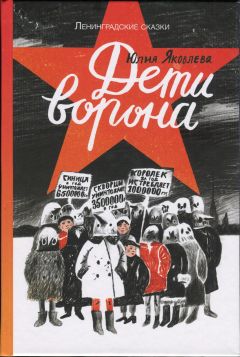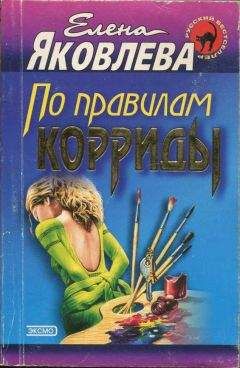из полосатой будки смотрели на нее с одобрительным интересом. Во-первых, из смутных классовых соображений (пока еще не проясненных эсерскими агитаторами). Во-вторых, из почтения к традициям заведения. Били, бьют, будут бить.
«Может, прикрикнуть?» – метался за прутьями, как в клетке, господин в цилиндре. Но – нельзя! нельзя! нельзя! – отчаянно колотилось сердце в тисках долга и чести.
«Я и это переживу. Я сумею». Все можно суметь пережить.
Экипаж с гнедым жеребцом невольно привлек его внимание: остановился у ворот заведения. Господин в цилиндре заметил белое страусовое перо, притертое к самому стеклу, ибо шляпа была модная: большая. Сама дама была не видна в темной глубине экипажа. Караульный нехотя оторвался от созерцания драки. Сунулся к вознице, спросил, получил ответ. Бросился отпирать ворота.
Гаркнул:
– Госпожа Ланская! К господину директору!
Господин в цилиндре и ухом не повел. Дамы его не занимали. Имя было незнакомо. Но дядька-воспитатель тут же скатился с крыльца. И бросился разнимать драку, отвешивая направо-налево красными кулаками, похожими на небольшие крымские дыни. Выволок Гришу Пушкина за алое ухо. Молниеносно отер с его лица пыль и кровь. Обмахнул мундир. Застегнул пуговицы (те, что не оторвались в драке). Дал бодрящий подзатыльник:
– Смирно! К господину директору – марш!
Все стало так, будто ничего не было. Только шелестела кружевная тень воронцовских лип.
Гнедой жеребец от боли, причиненной натянутыми удилами, показал длинные зубы и впечатал все четыре копыта, взметнув фонтанчики песка. Стукнула дверца. Стукнула выкинутая лесенка. Выплеснулся оборчатый край платья. Перо задело за верх экипажа.
Господин в цилиндре невольно бросил взгляд. Сердце его запнулось.
Все такая же высокая. Выходя, ей пришлось наклонить голову. Поля шляпы скрывали лицо. Сжимая зубами мундштук с папиросой, она попала прыгающим кончиком в пламя. Раскурила. Затянулась. Выпустила сизые клубы – и вот так, вся в дыму, как огнедышащий дракон, наконец сошла по лесенке из экипажа и подняла лицо.
Дым рассеялся.
Под глазами темные мешочки. Щеки осунулись. Рот запал, весь в лучиках морщин. На лбу и у носа – тоже. Волосы – пегие от седины. В движениях – осторожная слабость. Немолодая женщина. Мать взрослых детей.
Дело в том, что она осталась все такой же прекрасной.
А потом расплылась и пропала в закипевшей в его глазах влаге.
«Госпожа… Ланская?!»
Господин в цилиндре отпрянул от решетки. И понял, что пережить можно многое. Но не все.
Например, не любовь.
Придерживая на голове цилиндр, он бросился прочь.
***
Он бежал, куда несли ноги. Госпожа… Ланская? Госпожа? Ланская! Прохожие по петербургской привычке огибать друг друга, точно ядовитый плющ, увиливали в последний момент, придерживая шляпы: он ни разу ни с кем не столкнулся. Но только чудом не попал под лошадь. Не ухнул в разрытую канаву. Не запнулся о вынутые шашки торцов. Он не видел, куда летел. Все растекалось в соленой амальгаме слез.
Госпожа… Ланская?!
Только когда в мышцах закипело, а в висках прояснилось, он увидел, что ноги принесли его на Конногвардейский бульвар. И укоротил шаг до обычного.
Был тот сумрачный час дня, когда на Конногвардейский бульвар выбираются девушки известного поведения и господа, которых это может заинтересовать.
Пушкин не глядел ни на тех, ни на других.
Госпожа… Ланская?!
Ведь доктор Даль рассказал ей все! Все, все, все.
От жены у Пушкина не было тайн.
До сих пор он не искал сближения с Натальей Николаевной, не давал о себе знать (зачем? – ведь она знает все!). Ждал, что первый шаг – по эту сторону – сделает она. Больше не связанная ни семейным долгом, ни брачными клятвами (официальными, по крайней мере), ни деньгами (вернее, их отсутствием), ни мнением других (а с нее бы сталось сделать всем назло). Руководствуясь только сердцем.
Ну вот все и вышло, как он хотел: свободный шаг свободной женщины. К алтарю. Об руку с другим. Ах, так он хотел не этого?
Пушкин упал на лавку. Вонзил трость в песок. Сжал набалдашник обеими руками. Уронил на них лицо и впервые с того мига, когда пуля пробила ему живот, позволил себе тяжкий стон.
То, что честнейший доктор Даль не сдержал клятву, ему и в голову не пришло.
– Сударь, вам дурно? – позвал над его головой голосок.
– Прекрасно, – буркнул Пушкин, выдавил вежливо: – Благодарю.
Лишь бы отстала. Но она не отстала.
– Сударь! Вам дурно!
Его обдало запахом розового мыла – всплеснула руками:
– О, сейчас… сейчас…
Пришлось открыть глаза, поднять лицо, собрать черты в учтивую гримасу:
– Благодарю. Я прекрасно себя чувствую. Просто быстро шагал, по жаре.
Она была юная. Лет семнадцать. Если не шестнадцать. Прелестный возраст, когда сочувствие к людям еще не растрачено. Простая шляпка, завязанная лентами под подбородком, обнимала полями розовое личико, как раковина – жемчужину. Видны были локоны, самого простого русского оттенка – серого, который романтики, кривясь от правды, возвышали до «пепельного». Серенькая накидка. Шалька с кистями. Не проститутка.
– Зачем вы здесь? – внезапно для самого себя спросил Пушкин.
Она подала ему флакончик:
– Извольте смочить себе виски́. Вам сразу полегчает.
– Нет, – качнул головой Пушкин.
На лице ее проступило недоумение. «Гришина ровесница», – сжалось у него сердце.
– Вы знаете, что такое закрытый пансион?
– Нет, – просто и охотно ответила она. – Мне давали уроки дома.
– Отвратительная жестокость, издевательство над теми, кто слабее или просто младше… И разврат! Омерзительный, бесстыдный.
– Давайте я вам смочу виски́, – сочувственно предложила она. – Вы совсем красный. Как бы удара не было. Мой дядюшка тоже делается красен, когда огорчен. А ведь это вредно.
Мимо них прошел господин в клетчатых штанах. Лет тридцати, розовый, в усиках. Окинул ее. Хмыкнул, глядя на него. Поодаль придержал шаг и теперь топтался, поглядывая в их сторону. Решил дождаться, чем кончится сделка, и, если не сойдутся в цене, тут же перехватить добычу. «Все они любят свежатину». Пушкин нахмурился, отклонил флакончик:
– Вам здесь не место. Взгляните на тучи. Вот-вот пойдет дождь. Уходите. Зачем вы здесь?
– Присела отдохнуть. В этом городе совсем нет скамеек.
«Провинциальная барышня», – понял он.
– Что вы делаете в Петербурге? Как могли родители вас отпустить одну? У вас здесь родственники? Как они позволили вам бродить одной! – возмутился Пушкин. Бросил свирепый взгляд на клетчатого. Тот опять хмыкнул. Пушкин почувствовал, как закипает кровь.
– Я сирота. Дядюшка и тетушка в Белогорске. Я за жениха приехала хлопотать.
Пушкин слушал вполуха. Глаза его воинственно впились в клетчатого господина. Тот нагло держался на прежней позиции.
– Он мичман. Иван Абрикосов. Его арестовали, когда…
– Он преступник? – быстро осведомился Пушкин. Другое привлекло его взгляд. По бульвару шла девушка без шляпки и перчаток, странной шаткой походкой. Платье на ней было застегнуто сзади кое-как – очевидно, мужской рукой. Косынка на шее торчала криво. Хищный взгляд белокурого господина тут же наметил ее. Она была пьяна.
Голосок рядом продолжал объяснять:
– Нет! Он изобретатель. Он добился, чтобы его принял военный министр господин Меншиков. Пришел с чертежами и опытной моделью. Прямо там