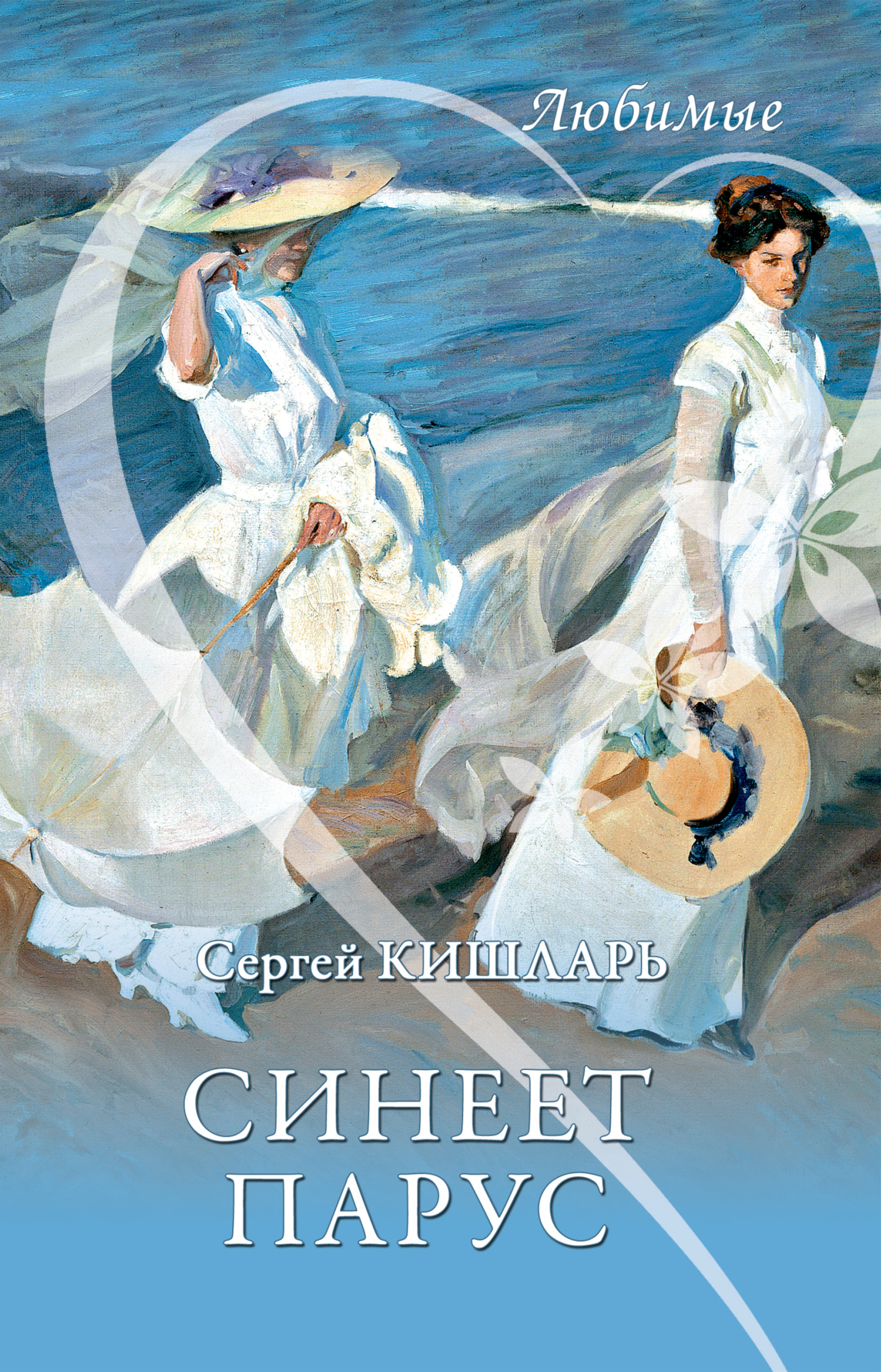марамоновском доме. Даже когда ЧК приходило с обыском, Арина чувствовала себя хозяйкой, на которой до последней минуты лежит забота о раненых, врачах, медсёстрах. Её увозили на допрос по делу Ольги, а она на ходу ещё отдавала распоряжения, просила позаботиться о забытых на столе бумагах и санитарку распекала за грязь в вестибюле. Раненые красноармейцы тогда грудью стали в дверях, закрывая чекистам дорогу, пока не добились от них твёрдого обещания, что «нашу барыню» доставят обратно в госпиталь целой и невредимой.
Теперь даже в своей спальне Арина не могла быть спокойна: и сюда могла войти новая хозяйка – без спроса, без церемоний. У Арины желчь закипала, когда она видела неприкрытую усмешку Чурбановой. Больше всего не любила она этот тип женщин, подхваченных революцией неведомо с какой обочины и вознесённых к власти. Мужеподобные по внешности и манерам, они курили, матерились, были безжалостны и бесцеремонны. Её бывшая прислуга, Люба Головина, – чем не та же Чурбанова? Говорят, больших постов у большевиков добилась.
Через неделю мучительного госпитального противостояния Арина написала прошение направить её сестрой милосердия на фронт, по возможности в тот самый полк, которым командовал Владислав.
К месту назначения она добиралась с интендантским обозом. Сначала ехали железной дорогой, потом на полустанке перегрузили всё хозяйство в телеги и к вечеру выехали в красную от заходящего солнца степь. Тень одинокого понурого подсолнуха тянулась до самого горизонта, цикады сыпали по обочинам многоголосое: «Ср-р-р-р… ср-р-р-р… ср-р-р-р…»
Возница, с которым ехала Арина, оказался пожилым солдатом, из крестьян. Его крестьянская хозяйственность чувствовалась во всём: и в том, как он разговаривал с лошадьми, и в том, как заботился о «барыне». Не поленился остановиться, перекинуть мешки так, чтобы получилось ложе для Арины, устлал пахучим сеном. Теперь телега скрипела в хвосте обоза, зато Арина могла уютно лежать, наслаждаясь очарованием степных сумерек.
Обоз въезжал в деревню. Глубокие тени легли под плетни, прижали к земле кроны деревьев, и от этого узкие улочки стали ещё теснее. В сумерках протяжно скрипел колодезный журавль, звонко лилась в жестяное ведро вода. На фоне синего неба – как чёрной тушью – отчётливо пропечатались силуэты пирамидальных тополей, колючая стреха камышовой крыши, глиняные горшки на плетне.
Зачарованная сумерками, Арина бездумно лежала в телеге и только когда проехали последнюю сельскую хату, вдруг поняла, что не злиться надо на Чурбанову, а сказать ей большое спасибо за то, что подтолкнула к решению, которое в обычной обстановке могло родиться ещё нескоро.
В природе было ещё мало осенних примет, – ночь спускалась летняя и веяло от неё тем очарованием, какое исходило в детстве от гоголевских страниц. В темноте попыхивали цигарки ездовых, слышался отдаленный негромкий говор – иногда отчётливый, иногда смазанный скрипом колёс. Внизу за огородами, в тёмно-синей речной воде реяло рвущееся по краю отражение луны. Пахло горячей дорожной пылью, и где-то в оставшемся позади селе протяжный женский голос звал заигравшегося мальца:
– Егорка-а… да-амой!..
Владислав был одновременно и обрадован и недоволен приездом Арины. С одной стороны, он и мечтать не мог о таком счастье, а с другой – постоянная опасность для Арины, близость к месту боёв, ночные рейды красной конницы. Лазарет частенько попадал в переделки.
Но вскоре горячка чувств затмила опасения, и начался период странного, безумного счастья, которое Арина боялась назвать своим именем, таким противоестественным казалось оно на фоне ужасов войны. Не к месту. Не по совести.
Стремительное продвижение деникинских армий к тому времени увязало в отчаянном сопротивлении красных. Полки ходили кругами, брали города и сёла, чтобы вскоре отдать их без боя, а через несколько дней вновь вернуться туда на новом круге.
Арина не видела Владислава по два-три дня, потом он вдруг появлялся в лазарете, который располагался в брошенном и разграбленном доме захудалого помещика. Подбадривал раненых, рассказывал о положении на фронте. Сдерживая радость в голосе, расспрашивал Арину о делах, о снабжении медикаментами и продуктами.
Из лазарета выходили, придерживаясь строгих и официальных отношений, степенно шли пыльной улочкой к хате, в которой квартировала Арина. Но уже в сумраке сеней, где пахло мышами, пылью и сухими степными травами, Владислав порывисто обнимал Арину, – она со вздохом прижималась к его груди.
Через чердачный лаз лился пыльный солнечный луч, летучие пылинки вихрились, торопливо подстраиваясь под страстные движения тел. Но на крыльце звучали шаги, – Арина и Владислав, как провинившиеся гимназисты, смущённо отстранялись друг от друга, спешили войти из сеней в хату.
Владислав покашливал, поправляя наплечные ремни, Арина убирала с раскрасневшейся щеки выбившуюся из-под белой косынки прядь волос. Суетилась, ставила самовар. Сёстры, которые квартировали вместе с ней, торопливо собирались в лазарет, хотя ни у одной из них не было в ту ночь дежурства.
– Всё – надоело, – вполголоса говорил Владислав, когда они оставались вдвоём. – Завтра же поговорю с батюшкой, пусть обвенчает нас.
– Я уже венчана, Влад.
– На войне всё можно. Я люблю тебя, и ты моя жена.
А на утро во дворе уже пофыркивали осёдланные кони, ординарцы терпеливо ожидали полковника: Лунёв покуривал, сидя на крыльце, Юрка не мог налюбоваться своим конём: оглаживал его, похлопывал, целовал в гладкую шею.
Арина провожала Владислава до околицы, долго смотрела вслед, пока он вместе с ординарцами не исчезал в розовом от рассветного солнца облаке пыли. И даже тревога, которая всегда возникала при отъездах Владислава, не могла подавить счастливую улыбку на губах Арины.
Но самые счастливые моменты случались тогда, когда лазарет шёл в походе вместе с полком. Тогда Арина и Владислав ночевали в поле у костра, а то и на ходу, в скрипящей и покачивающейся под звёздами телеге. Пахло сухой пыльной полынью, дёгтем, приближающимися заморозками. Лёжа в телеге, Арина поднимала к небу руку, пальчиком чертила контуры созвездий, будто осторожно поглаживала их.
– Большая Медведица… Кассиопея…
Рука Владислава поднималась к её руке и где-то в звездном небе гладила её пальчики.
– Никогда не замечал, что звёзд так много.
– И я… Когда к тебе ехала, будто в первый раз их увидела. Много… Будто в мире нет ничего, кроме этих звёзд и неба… И наших рук.
Поднятые к небу руки, как два живых существа, проникали – пальцы в пальцы – одно в другое, нежно поглаживали друг друга, страстно сплетались.
Арину качало в телеге, как в детской колыбели, неподвижные звёзды начинали роиться в глазах. Сквозь сон она смутно чувствовала, как Владислав нежно поглаживает её волосы, и знала, что когда она окончательно заснёт, он ляжет над ней, опираясь на локоть, и ещё долго