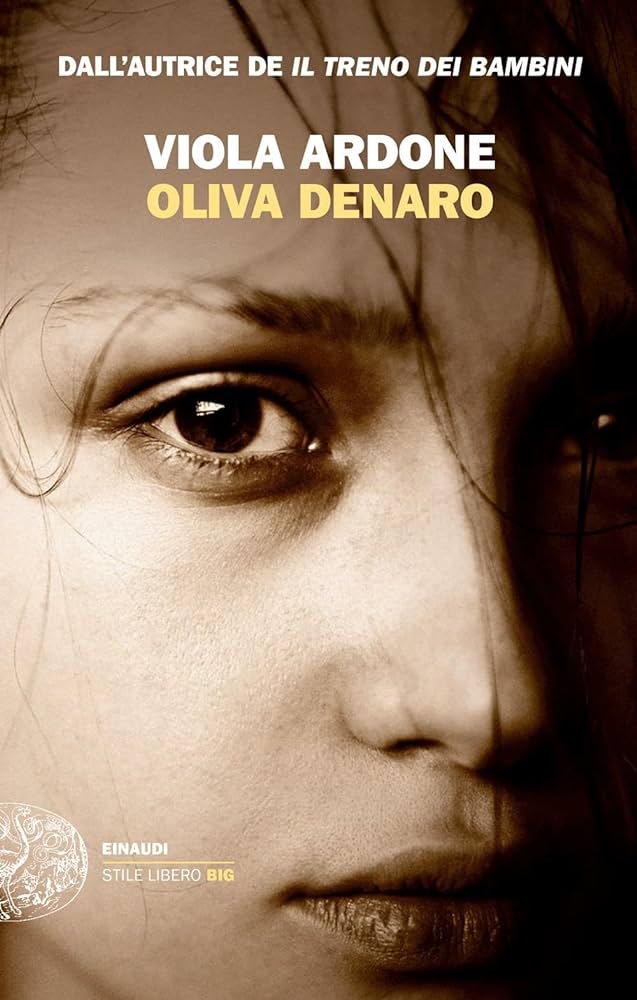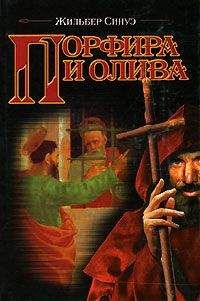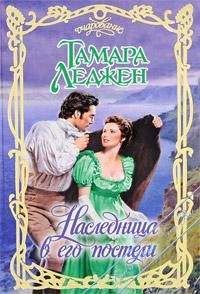голос отца:
– Ты, Неллина, должно быть, на рынок собиралась с утра пораньше, да заплутала. А в этом доме купить нечего.
Но Неллина, хоть и притворяется обиженной, продолжает гнуть своё:
– Это ты сейчас так говоришь: рана-то, почитай, совсем свежая. Про завтра, про послезавтра, про годы, что впереди, подумай! Оливе эти денежки ой как пригодятся, да и вам тоже – чай в золоте не купаетесь.
– Да мы и слушать не будем! – взвивается мать, со скрипом отодвигая стул. – Побойся Бога, Неллина! Тебя одно только и оправдывает, что ты сама радости материнства не испытала! А Олива сейчас к экзамену готовится, учительницей будет, – она повышает голос, наверное, чтобы я тоже слышала, и добавляет по-калабрийски: – Ей чужие подачки не нужны! Хорошего тебе дня!
Мы с Козимино ошеломлённо переглядываемся: и это мать, которая до сих пор ни с одной живой душой грубого слова себе не позволяла – ни с Неллиной, ни с кем бы то ни было в городе! Которая всю свою жизнь лишь кивала и соглашалась, чтобы жить тихо, размеренно, никого не задевая! Но теперь, похоже, и она научилась говорить «нет».
Прощаясь, экономка ещё раз советует принять правильное решение, поскольку для нас же будет лучше договариваться по-хорошему, чем по-плохому, а то ведь с подобными людьми шутки плохи и, что поделать, иногда приходится смирить гордыню, которая, между прочим, входит в число смертных грехов... Когда она наконец уходит, мы с матерью, и словом не обмолвившись о неприятном визите, принимаемся за рождественский ужин, невозмутимо повторяя привычные действия: замешиваем тесто, разливаем масло, нарезаем чеснок, чистим помидоры, зажигаем конфорки, моем кастрюли, начищаем приборы. Так продолжается до самого вечера, и она ни разу не пытается мной командовать, а если я где-то ошибаюсь, молча даёт сделать по-своему, будто разом забыла о правилах. И время от времени, подняв глаза от плиты, робко мне улыбается.
Но едва мы собираемся сесть за стол, как снова слышим стук в дверь. Сразу вспомнив слова экономки о «по-хорошему» и «по-плохому», я каменею. Стук повторяется, на сей раз сильнее. Мать подходит к глазку, но уже слишком темно, чтобы что-то разглядеть, и отец шёпотом велит нам молчать, как будто дома никого нет. С третьим стуком из-за двери раздаётся голос:
– Откройте, это я! – и мы переглядываемся: неужели не сон?
На пороге стоит Фортуната: шаль мокрая, с волос течёт, зубы стучат как заведённые. Поначалу она ничего не говорит, только дрожит – похоже, не только от холода, – да глядит на нас побитой собакой, не знающей, можно ли доверять протянутой руке, прячется ли в ней ласка или палка. И синяки у неё под глазами темнее ночи. Мать предлагает ей переодеться, в своё, конечно, зато сухое, и посылает Козимино за ещё одним стулом. Мы ни о чём не спрашиваем, ждём, пока она поест и напьётся, и она в конце концов начинает рассказывать сама.
– Четыре года я эти адские муки терпела... Попрёки, побои, оскорбления... Ребёнок, которого я из-за него потеряла, – Мушакко говорил, не от него: мол, я всех обманула и, как потаскуха последняя, от другого забеременела, лишь бы его на себе женить. Силком, значит, замуж хотела затащить? Ну так он мне покажет, каково это – замужем быть! Четыре года я из дому носа не казала, живой души не видела, с родными словом единым не перемолвилась. Но молчала. Сама ведь виновата, что в угол себя загнала. Твердила себе: держись, не отступай, сильная женщина всё снесёт. Молчание, терпение, нежность – такие вещи мужчина ведь только со временем ценить начинает... Четыре года он свою похоть тешил, а я взаперти гнила! Не упрямься, не прекословь, будь послушной – вот что я себе повторяла! Пока ветер дует – деревья гнутся: как ты учил, папа, так я и делала. Но это последняя капля, чаша переполнилась...
Я не слышала её голоса с того самого дня, как сестра вышла замуж: тогда Мушакко лишь деланно улыбался при виде обтягивающего живот платья. И всё это время Фортуната мучилась от боли, словно быть похороненной в четырёх стенах для новобрачной – дело совершенно обычное.
– Как он под ручку с тем мерзавцем домой заявился, тут-то моё терпение и лопнуло. «Ставь, жена, ещё один прибор, гость у нас к ужину: зятёк твой с отцом разругался, вот и решил нам честь оказать, сочельник в нашем доме провести». Только я этого подонка увидала, аж нехорошо стало. «Зять? – кричу. – Сестра небось его в суд, а не к алтарю тащит!» А Мушакко мне пощёчину: «В вашей семейке, – говорит, – все бабы одним миром мазаны: за ломаный грош ноги тебе лизать будут. С другой стороны, чего ещё ждать, с такой-то фамилией [22]?». Тут уж я не стерпела: собрала со стола тарелки из фамильного сервиза да всю стопку об пол грохнула, ещё и плюнула сверху. Он от неожиданности дар речи потерял: привык, что я до тех пор покорней овцы была. Ну, я сразу в комнату побежала, вещи, что под руку попали, в сумку бросила, выскочила за дверь и по лестнице очертя голову слетела.
А мы сидим, язык за зубами держим. Неужели не понимали, что происходит? Но даже если не понимали, разве могли не догадываться? И тем не менее даже пальцем не пошевелили – значит, и сами в том, что на люди не выносят, замешаны. Соучастники.
– Прости, папа, мне так жаль, – продолжает Фортуната, – но если нельзя в этом доме остаться, я лучше в монашки пойду, чем туда вернусь.
Отец, помолчав немного, подходит к дочери, целует её в лоб. Когда он склоняет к ней голову, видно, что их волосы одного цвета – не различить.
– Вот и освятили сочельник, – вздыхает мать, потом вдруг улыбается с какой-то новой, незнакомой нежностью. – Давайте-ка спать, поздно уже. Я ей в твоей комнате постелю, – и, качая головой, уходит по коридору. Мы с Фортунатой идём следом.
Мужчины остаются в кухне, до нас время от времени доносятся их голоса.
– Ты должен её вернуть, – настаивает Козимино, – не то мы кругом виноватыми выйдем. Жена должна с мужем жить, под одной крышей! И лучше бы ей своими ногами пойти, не то Мушакко сам сюда явится и силой заберёт! Или ты поножовщины хочешь? Мало нам позора...
Какое-то время ничего не слышно,