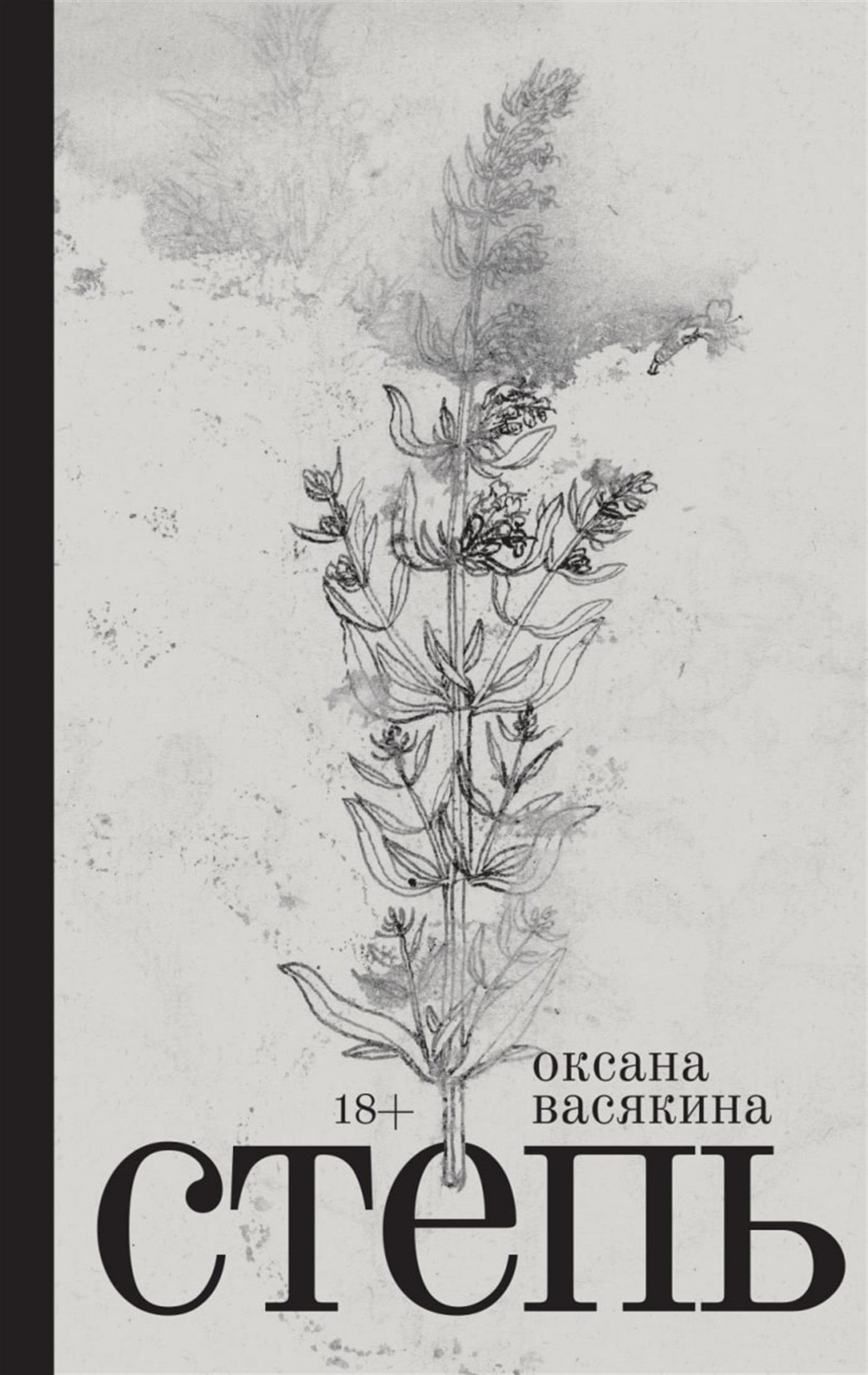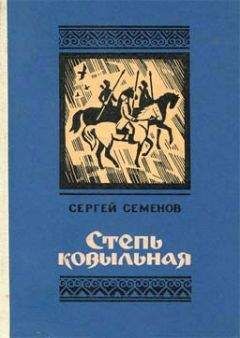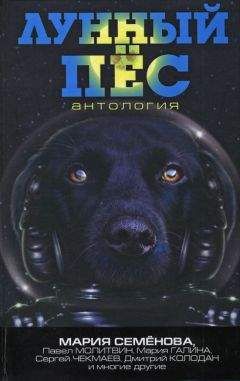в молодости, – кроме того, что его спасла Маньчжурская кампания. Всех парней отправили на Западный фронт, а деда отправили на Восточный. Там он воевал, а потом вернулся с войны. А больше никто в поселок не вернулся, кроме него и еще двух парней. Потому что их отправили на восток и это их спасло.
Я ничего не знала о его жизни, кроме того, что он был на войне. Причем я всегда думала, что он был на войне с немцами. Однажды он посадил меня, пятилетнюю, на велосипедную раму и повез в Дом ветеранов. В Доме ветеранов большой вентилятор гонял воздух и флажки на макете боевого сражения развевались от этого внутреннего ветра. Дед сидел не за столом, а где-то поодаль и слушал, как ветераны разговаривают о своих насущных делах. Когда ветераны стали недовольно материться, он шикнул на них, чтобы те не матерились при ребенке.
Макет занимал меня. Зеленый картон вместо травы, а в качестве кургана на картон приклеили вымоченную в зеленке вату. На небольшом кургане стоял флажок из красного шелка. Тот, кто его мастерил, вырезал кусочек кумача из красивой узорной ткани шелкового платья или косынки. Вокруг кургана стояли пластмассовые танки. Боевое поле усыпано тараканьим дерьмом. Макетный мастер клеил все на ПВА, и тараканы съели клей.
Ветераны поили меня чаем, кормили песочным печеньем и ягодными пирогами. Ветераны в Доме ветеранов все были с войны с немцами. Но дед не был на войне с немцами, оттого он остался жив. Последний маньчжурский ветеран умер еще до моего рождения, и дед чувствовал себя неловко среди героев Великой Отечественной войны. Но на собрания ветеранов он ходил исправно, там решались важные общественные вопросы и выдавали ветеранские пайки. Дед не участвовал в спорах, только забирал пакеты с печеньем и коньяком и сидел в сторонке, пока вина за то, что он остался жив, жгла его изнутри.
Наигравшись, я садилась на линолеум у дедовых ног и ковыряла алюминиевые прищепки, которыми дед подбирал полы штанин. Я спросила его, почему он так делает, и он ответил, что штаны пачкаются о велосипедную цепь и бабушка потом на него сердится за это. Я снимала прищепки с его штанин и рассматривала их. Они были легкие и похожи на глупых холодных рыб. Одна прищепка была тугая, а вторая слабее. Второй я защемила нос, пока он не побелел. Приехав домой, дед цеплял прищепки за раму велосипеда, который ставил в сарай.
Дед сажал меня в мотоциклетную люльку и увозил на рыбалку. Там мы видели мертвую жабу, от смерти раздутую до размера домашней грелки. Отца мы тоже брали с собой на рыбалку. Он был молодой тогда: у него были черные густые волосы и все зубы были там, где им положено быть. Но ты мне напомни потом, я тебе расскажу о теле отца.
Итак, oтец нашел жабу, раздутую до размеров домашней грелки, поднял ее и окликнул меня. Мы брели по топям Волжской дельты. Все кругом было влажное, и резиновые сапоги вязли в травянистой жиже. Мне было интересно посмотреть на мертвую жабу. И отец поднял ее над головой. Я хотела подойти поближе, но между нами шла протока, которую мне было не перепрыгнуть. Отец посмотрел на жабу, потом на меня и, смеясь, размахнулся и забросил жабу в кусты. Ты спросишь, какая она была, и я отвечу: жаба была серая, мертвая и большая.
Дед брал лопату, и мы шли к забору, где за колодцем была влажная бесхозная земля. Там было самое червивое место, шланг все время подтекал, а тень от соседских тополей не давала просохнуть земле. Дед копал, а я, присев на корточки и заправив полу юбки между ляжками, собирала обрубки червей в маленький пластиковый пузырек от витаминов. Черви корчились, и все думали, что разрубленный надвое и натрое червь обязательно будет жить дальше. Но это неправда. Ты знаешь, что это неправда? Разрубленные черви умирают, вот и все.
Мы шли по деревянному настилу за персиковые и яблочные деревья, где рядом с южной баней было двенадцать дедовых сараев. Дед каждое утро открывал сараи. У него была специальная крепкая веревочка, на которой хранились все ключи от навесных замков. В сараях пахло солью и балыком, пахло бумагой, травой и пылью. В сараях тонкие нитки света ликовали: они тянулись из узких щелей между рассохшимися досками. Крупная серая с черными крапинками соль хранилась у деда в бочке, a в деревянном коробке он хранил палочки-распорки для выпотрошенной мертвой воблы. Все кругом пахло рыбой и остановившимся временем.
В сарае мы брали маленькую самодельную удочку для меня, большую удочку для деда и мешок сетей. У деда была большая деревянная игла, в которую он заправлял безупречно-белую капроновую нить. Этой иглой он чинил сети. Он сидел спиной к саду и лицом к черным зевам сараев на высоком чурбаке и тихо пел, починяя сеть.
Я любила деда, любила стричь в его ушах и носу длинные кучерявые пучки волос. А по вечерам мы ложились на расстеленное на полу красное атласное одеяло и смотрели «Поле чудес» и «Угадай мелодию». Дед любил смеяться над Валдисом Пельшем, которого он называл Ванькой-Встанькой. Дед меня удивлял своей нерасторопностью и жизнью, в которой все было на своих местах. Днем, после тяжелого обеда, он шел в прохладную комнату отдыхать. И тогда нельзя было шуметь в доме. Лучше всего было лежать на полу у дедовой кровати со стальными набалдашниками и слушать, как дед сопит. Дед спал, и светлая клетчатая рубашка шевелилась на его плече. Сквозь закрытые ставни белый луч падал на его расслабленную ладонь, и было слышно, как в вишне у забора верещат две склочные ласточки.
Дед брал две удочки, сети, небольшой брезентовый мешочек с хлебом, бутылек с розовыми червями и алюминиевый ящик с рыбацкими принадлежностями. Сажал меня в люльку своего красного мотоцикла, и мы ехали до паромной переправы.
Бурая вода, растревоженная паромом, бурлила за бортом, и я смотрела в нее так, как будто из нее обязательно должно показаться что-то ценное: большая рыба или тело утопленника.
На маленьком пирсе мы сидели с дедом и ждали клева. Тихое тугое движение голодной рыбки, зацепившей кусочек червяка на крючке, тянуло леску, и тогда я подсекала и вытаскивала серую блестящую воблу или красноперого окунька. Рыба билась у меня в руках, а я ловко доставала из ее липкого вздрагивающего рта тонкий острый крючок.
Поймав рыбу, мы с дедом решали ее судьбу. Если рыба была большая, мы запускали ее в светлое исцарапанное ведро с мутной речной водой. Если же