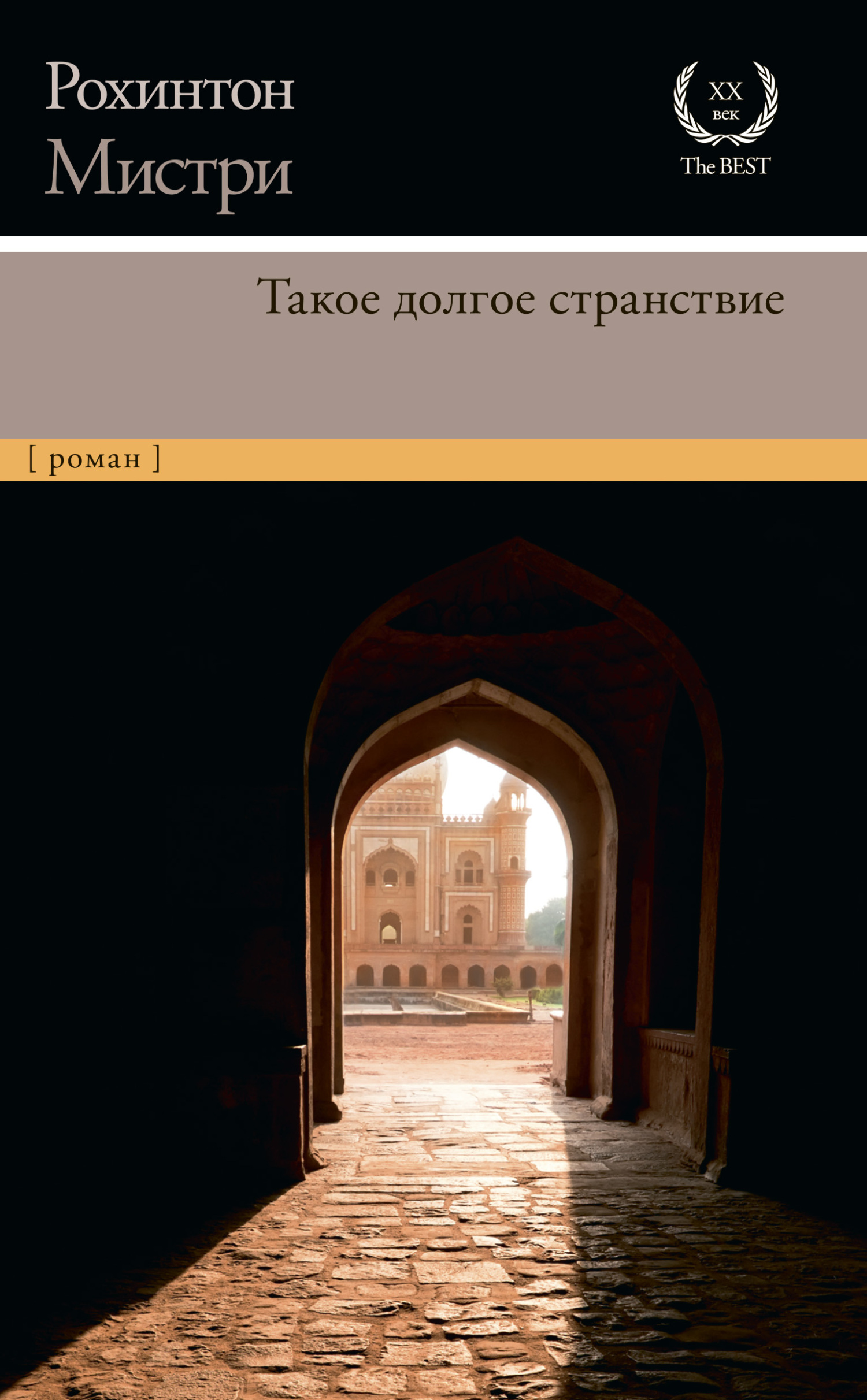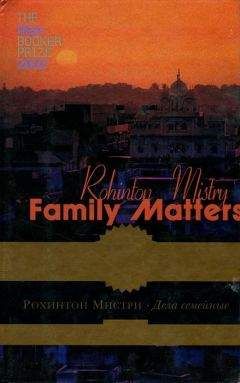его расшатанные после недавно случившейся утраты нервы, думала она.
– Когда будешь готов, тогда и снимешь черную бумагу, баба́ [15]. У меня и в мыслях нет заставлять тебя, – сказала она, однако регулярно проводила осмотр: бумага собирала пыль, и ее трудно было чистить, она была идеальным местом для пауков, чтобы плести свои паутины, и служила отличным укрытием для тараканьих кладок, а кроме того, придавала дому мрачный и гнетущий вид.
Проходили недели, месяцы, а бумага все сдерживала доступ в квартиру любых форм света – что земного, что небесного.
– В такой обстановке кажется, что утро никогда не наступит, – жаловалась Дильнаваз. Постепенно она изобретала все новые способы борьбы с пылью, паутиной и домашними насекомыми. Семья привыкла жить при тусклом свете, словно затемнение продолжалось. Иногда, однако, когда Дильнаваз особенно доставали повседневные заботы, черная бумага становилась мишенью ее раздражения.
– Чудесно! Сын собирает бабочек и мотыльков, отец – пауков и тараканов. Скоро Ходадад-билдинг превратится в один большой музей насекомых.
Но спустя три года Пакистан совершил нападение с целью откусить кусок Кашмира, как это было сразу после Раздела [16], и затемнение снова оказалось востребованным. Густад не преминул торжествующе указать ей на мудрость своего решения.
Покинув спящих детей, он вернулся, чтобы дочитать газету. Для молитвы было еще рано: свет пока не забрезжил на горизонте. Проследовав за Дильнаваз на кухню, он стал читать ей газетные заголовки: «Разгул террора в Восточном Пакистане»…
– Подожди, пока я наполню бак, – попросила она, поскольку из-за шума текущей под напором воды ничего не слышала. Сегодня напор был слабым, и потребовалось больше времени, чтобы заполнить бак. «Интересно почему?» – подумала она, простирывая батистовый лоскут, через который процеживала воду в сосуд, где хранилась дневная доля питьевой воды. Шлепнув мокрую тряпочку на горлышко глиняного кувшина, она расправила ее и ловко продавила посередине пальцами, чтобы образовалась воронка.
– Тут пишут, что «Авами Лиг» [17] провозгласила образование Республики Бангладеш, – продолжил Густад, когда Дильнаваз закрутила кран. – А я говорил коллегам в столовой во время обеда, что именно это и произойдет. Они утверждали, что генерал Яхья [18] позволит шейху Муджибуру Рахману [19] сформировать правительство. Пусть мне отсекут правую руку, сказал я тогда, если эти фанатики и диктаторы с уважением отнесутся к результатам голосования.
– И что теперь будет?
Он проигнорировал ее вопрос, продолжив про себя читать о бенгальских беженцах, хлынувших через границу и рассказывавших о терроре и зверствах, пытках, увечьях и убийствах; о рвах, заполненных трупами женщин с отрезанными грудями, о младенцах, насаженных на штыки, о разбросанных повсюду обгоревших телах, о деревнях, полностью стертых с лица земли.
Глиняный кувшин наполнился до краев. Дильнаваз отмерила шесть капель темно-лилового раствора. Ее не переставало тревожить то, что они не кипятят питьевую воду. Но Густад говорил, что процеживания и добавления марганцовки достаточно для обезвреживания. Она выжала намокший подол своей вылинявшей ночной рубашки с цветочным рисунком. От усилий на ее слишком быстро стареющих руках вздулись синие вены. Крышка на чайнике подпрыгивала и дребезжала.
– Интересно, что бы сказал об этом майор Билимория? – заметила она, засыпая в чайник три ложки «Брук Бонда». Шумное бурление чайника перешло в тихое бормотание. Она не любила заваривать чай прямо в чайнике, но английский темно-коричневый заварной чайник, который служил им двадцать лет, треснул. Износившийся чайный чехол, из которого сыпалась заплесневевшая набивка, тоже надо бы было заменить.
– Майор Билимория? Сказал бы – о чем? – Не заподозрила ли она что-нибудь насчет спрятанного письма, подумал Густад, стараясь сохранить равнодушный тон.
– Насчет этих беспорядков в Пакистане. Люди говорят, что будет война. У него, с его военным прошлым, могла бы быть внутренняя информация.
Майор Билимория жил в Ходадад-билдинге почти столько же, сколько Ноблы. Густад всегда ставил его в пример своим сыновьям, требуя, чтобы они ровно держали спину при ходьбе, втягивая живот и выпячивая грудь, как «дядя майор». Отставной майор любил потчевать Сохраба и Дариуша историями о своих героических армейских днях и участии в битвах. В глазах его юных слушателей эти истории мгновенно обретали статус легенд, героем которых был их дядя майор: легенд про трусливых пакистанцев, которые, поджав хвосты, бежали в 1948 году от столкновения с индийскими солдатами в Кашмире, или о разгроме наводивших на всех ужас воинственных племен с северо-западной границы, являвшихся бичом могущественной английской армии во времена империи. Для этих диких и свирепых племен, рассказывал дядя майор, сражаться и убивать было все равно, что играть в любимую игру. Спущенные с цепи пакистанцами, они напивались пьяными и начинали громить первую попавшуюся на их пути деревню, вместо того чтобы двигаться вперед и атаковать столицу. Проходило немало часов, пока они рубили мирных жителей и рыскали от одного дома к другому в поисках денег, драгоценностей и женщин. И пока они предавались этим своим «забавам», продолжал дядя майор, у индийской армии образовалось время дождаться подкрепления. Битва была выиграна, опасность для Кашмира миновала. Тут дети издавали вздох облегчения и начинали аплодировать. Его истории – о переходе через перевал Банихал, о битве за Барамулу, об осаде Шринагара – были такими захватывающими, что Густад и Дильнаваз сами слушали их как завороженные.
А в прошлом году майор Билимория исчез из Ходадад-билдинга. Пропал, никому не сказав ни слова, и никто не знал куда. Вскоре после этого приехал грузовик, у водителя был ключ от его квартиры и приказ забрать его вещи.
На задней части грузовика краской, буквами со множеством завитков, было написано: «Надейся на Бога, но сигналь при обгоне». На вопросы соседей ни водитель, ни его помощник ничего сообщить не могли, кроме: «Humko kuch nahin maaloom» [20].
Внезапный отъезд майора ранил Густада Нобла больнее, чем он позволял себе показать. Всю глубину его боли понимала только Дильнаваз.
– Вот так, без всяких объяснений уехать, после того как мы столько лет были добрыми соседями, это бесстыдно. Чертовски дурной поступок! – единственное, что он сказал по этому поводу.
Но, хотя Густад и не хотел этого признавать, Джимми Билимория был для него больше чем соседом. Самое меньшее – любимым братом. Почти членом семьи, вторым отцом его детей. Густад подумывал о том, чтобы назначить его их опекуном в завещании на случай, если что-то непредвиденное случится с ним и Дильнаваз. Даже спустя год после исчезновения майора он не мог думать о нем без сердечной боли. Лучше бы Дильнаваз не произносила его имени. Достаточно было и того письма, при воспоминании о котором у него вскипала кровь.
Стараясь сохранить видимость