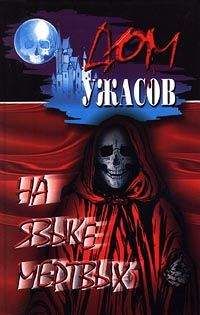я хочу показать ей, как глупо она себя ведет, – сказал мистер Бэском.
– И вы сами хотите спать в его… в этой комнате? – спросил дворецкий.
– Именно так.
– Что ж, – задумался Скегг, – даже если он действительно там бродит – во что я не верю – он вам родня, не думаю, что он вам навредит.
Когда Дэниел Скегг вернулся в кухню, он безжалостно выбранил бедную Марию. Бледная и молчаливая, она сидела в своем углу у очага, штопая старые серые шерстяные чулки миссис Скегг – самую грубую и жесткую броню, когда-либо вмещавшую человеческие ноги.
– Какой же надо быть привередливой неженкой, – вопрошал Дэниел, – чтобы явиться в дом благородного человека и своими бреднями да капризами заставить его променять собственную спальню на чердак.
Он объявил, что, если таково следствие образованности не по чину, то он рад, что не зашел в учении дальше чтения по слогам. С образованием для него покончено, раз к такому оно ведет.
– Мне очень жаль, – говорила, запинаясь, Мария и тихо плакала над своей работой. – Право слово, мистер Скегг, я не жаловалась. Хозяин спросил, и я сказала ему правду. Вот и все.
– Все! – гневно воскликнул мистер Скегг. – Да уж, все! Думаю, этого было довольно.
Бедняжка Мария держала язык за зубами. Ее сознание, потрясенное грубостью Дэниела, бежало прочь из этой унылой большой кухни в прошлое, к утраченному дому, в укромную маленькую гостиную, где они с отцом таким же вечером сидели у уютного камина; она со своей аккуратной коробочкой для рукоделия, он – с любимой газетой; на коврике мурлыкала обласканная кошка, на блестящей медной подставке пел чайник, чайный поднос весело намекал на приятнейшую трапезу дня.
О, эти счастливые вечера, эта прелестная близость! Неужели они ушли навсегда, и в жизни не осталось ничего, кроме грубости и неволи?
Той ночью Майкл Бэском лег спать позже обычного. У него была привычка еще долго сидеть за книгами после того, как погаснут все лампы, кроме его собственной. Скегги затихли во тьме своей мрачной спальни на первом этаже. Сегодня занятия Майкла были особенно интересными и больше напоминали увеселительное чтение, чем тяжкий труд. Он глубоко погрузился в историю загадочных людей, что обитали в швейцарских озерах, и был очень взволнован некоторыми домыслами и теориями о них.
Старые восьмидневные часы [1] на лестнице били два, когда Майкл со свечой в руке медленно поднимался в дотоле неведомую ему область верхнего этажа. Поднявшись по лестнице, он обнаружил перед собой темный узкий коридор, ведущий на север; одного вида этого коридора было достаточно, чтобы вселить ужас в суеверный разум, настолько мрачно и зловеще он выглядел.
«Бедное дитя, – подумал мистер Бэском о Марии, – этот верхний этаж и в самом деле мрачноват, а уж для молодого ума, склонного к фантазиям…»
К этому времени он уже открыл дверь в северную комнату и стоял, озираясь.
Это была просторная комната с потолком, который с одной стороны был скошен, зато с другой довольно высок; комната старомодная, полная старомодной мебели – громоздкой, массивной, неуклюжей, связанной с ушедшими днями и почившими людьми. Прямо на Майкла уставился ореховый гардероб с медными ручками, сверкавшими в темноте, точно дьявольские глаза. Была там и кровать с четырьмя столбиками, подпиленными с одной стороны под уклон потолка, отчего выглядела она уродливо и неказисто. Старое бюро красного дерева пахло секретами. Тяжелые старые стулья с плетеными сиденьями заплесневели и сильно обветшали. В комнате имелся угловой умывальник с большой раковиной и маленьким кувшином – пережиток прошлого. Пол был голый, за исключением узкой полоски ковра возле кровати.
«Вот же унылая комната», – подумал Майкл с тем же сочувствием к слабости Марии, которое только что испытал, поднявшись по лестнице.
Ему было безразлично, где спать; но, дабы удовлетворить свой интерес к озерным швейцарцам, ему пришлось ненадолго спуститься с привычных интеллектуальных высот, и, как бы очеловечившись легкостью своего вечернего чтения, он даже склонен был сострадать слабостям глупой девчонки.
Майкл улегся в кровать с намерением спать как убитый. Постель была удобной, с обилием одеял, можно сказать, роскошной, а ученый испытывал приятное утомление, обещавшее глубокий и спокойный сон.
Уснул он быстро, но через десять минут проснулся. Что за груз забот пробудил его, что за чувство всеобъемлющей тревоги, отягощавшее дух и угнетавшее сердце, что за леденящий ужас перед чудовищной и неизбежной жизненной катастрофой? Для Майкла эти ощущения были столь же новы, сколь и болезненны. Его жизнь всегда текла гладко и медлительно, и поток этот не тревожила даже легкая рябь страдания. Но в ту ночь он испытал все муки тщетного раскаяния, невыносимые сожаления о потраченной впустую жизни, боль унижения и позора, стыда, падения, предчувствие безобразной смерти, на которую он сам же себя и обрек. Такие ужасы окружали и тяготили его в комнате Энтони Бэскома.
Да, даже он, человек, считавший, что природа – как и бог, ее создавший, – не более чем безответственная и неизменная машина, управляемая законами механики, готов был признать, что лицом к лицу столкнулся с психологической загадкой. Тревога, вставшая между ним и сном, была та же, что преследовала Энтони Бэскома в последнюю ночь его жизни. Так ощущалось самоубийство, когда он лежал в этой мрачной комнате, возможно, пытаясь дать своему утомленному уму забыться последним земным сном, прежде чем отойти в неизведанный промежуточный мир, где царят тьма и покой. С тех пор и поселился в комнате этот тревожный дух. К тому месту, где страдал и погиб Энтони Бэском, вернулся не призрак его тела, не бессмысленное подобие его фигуры и одежд, но призрак его сознания, самая его сущность.
Майкл Бэском был не из тех, кто без борьбы спустился бы с высот скептицизма. Он изо всех сил пытался побороть тоску, угнетавшую его разум и чувства. Снова и снова ему удавалось заставить себя уснуть, но раз за разом он просыпался с теми же мучительными мыслями, с теми же угрызениями совести, тем же отчаянием. Ночь эта вымотала его необыкновенно: хотя Майкл говорил себе, что это горе – не его, что это бремя – просто наваждение, что совесть его чиста, фантазии были настолько яркими, что причиняли боль по-настоящему и по-настоящему же не давали ему покоя.
В окно проникла первая полоска тусклого, холодного серого света, затем наступили предрассветные сумерки, и Майкл посмотрел в угол между гардеробом и дверью.
Да, там появилась тень, и было вполне ясно, что отбрасывает ее не только гардероб – нечто смутное и бесформенное темнело на унылой коричневой стене,