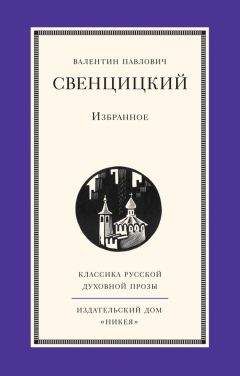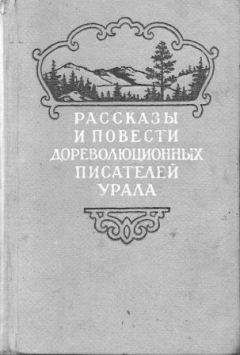Ознакомительная версия.
Я смотрел в глубь сияющих глаз Верочки, и ласковые лучи их, казалось, воскрешали во мне все прошлое, безвозвратное, сообщали ему какую-то нетленную радость вечной жизни.
Волнуясь, как маленький мальчик, я рассказывал ей, какой у нас был пруд в деревне, как в самый сад заливала вода за забор, и мы, завернув штанишки, потихоньку от старших бегали по воде и ловили тритонов. Вода теплая, ноги приятно колет трава, солнце так и парит, так и блестит. Синие стрекозы нежно порхают над самой водой, пахнет теплым илом и душистыми яблонями.
Я почти плачу от радостной неожиданности этих воспоминаний. Так бы и сорвался с дивана и побежал вместе с Верочкой в сад, в лес, наскоро забежал бы в клубнику, и так на целый день.
Старая жизнь, как казалось тогда мне, воскресла в душе моей и слилась невидимо с новой, возрождающейся жизнью.
Да, это, несомненно, был сон!
Только во сне могут так блаженствовать люди, так терять голову, так отдаваться иллюзиям.
Я все забыл на этот час: и смерть, и зло, и добро, и святого, и дьявола. Я помнил только одно: радость детских лет и радость грядущей жизни. Прошлое и будущее таинственно сливалось в торжествующую радость жизни.
Я не устал больше. Я не могу лежать. Мне нужно двигаться, говорить, смеяться.
Мы начинаем вспоминать Трофима Трофимыча, тетушку и хохочем, хохочем, как сумасшедшие.
Верочка преобразилась вся. И она тоже – вся как в прошлом. Только два года назад так неудержимо весело звучал ее голос, так сияло нежное, хрупкое лицо ее.
Отворили окно. Холодная осенняя ночь пахнула на нас, ворвался уличный шум. О, как хорошо! Все хорошо: и шум, и холод, и осень.
Я любил Верочку. Любил, любил – несмотря ни на что!
Милая, жизнь моя! Я не мог больше выдержать этой ликующей радости, этого внезапного безумного счастья. Я обнял ее, как родную, как чистую, ненаглядную сестру свою.
– Прости, прости, прости… – шептал я, почти теряя сознание.
Господи, да разве можно говорить «прости», разве она уже давно не простила? Все простила, все забыла и слушать не хочет. Ничего этого не надо. Любит она, любит. Все отдаст за меня, жизнь отдаст, все.
Святая моя, маленькая моя Верочка!
Ей домой нужно. Завтра она опять придет, обязательно придет. Она больше никогда меня одного не оставит.
Мы вышли в прихожую.
Уходит… значит, так надо… А завтра опять… это новая жизнь.
Уже совсем прощаясь, она сказала:
– Ты слышал, завтра предполагаются беспорядки.
Я ничего не слыхал. Но, должно быть, мое воскресение было неполным! Во всяком случае, прежняя неожиданная для самого меня лживость и внезапность ответов осталась.
– Слышал, – сказал я серьезно и прибавил: – Я тоже иду.
Верочка посмотрела на меня хорошим, «честным» взглядом и по-мужски пожала руку.
Ушла… Прощай, Верочка!
Я сидел и ждал ее. Резкий звонок – верно, она. Я сделал вид, что занимаюсь, хотя целый день сидел, ничего не делая.
Вдруг с шумом распахнулась дверь, и я увидал Николая Эдуардовича. Он был без пальто, мокрый от дождя, со сбившейся на сторону шляпой.
Не здороваясь, крепко схватив меня за плечи, он проговорил с какой-то странной отчетливостью:
– Верочку убили…
Я встал и безжизненно, как труп, уставился на край стола.
Ни жалости, ни горя, ни испуга, ни удивления… Да, да, я знал это, опять точно заранее до мельчайшей черты все предчувствовал: и как он войдет, и как он скажет.
Мы ехали молча. Николай Эдуардович успел только сказать:
– Я убеждал ее утром не ходить, она сказала, что ты там будешь и ей необходимо.
Я вошел в ее комнату один…
Слушайте, вы, читатели, от нечего делать читающие романы! Вам хочется наслаждаться эстетическими эмоциями. Уходите прочь отсюда, здесь мое царство, я не хочу, чтобы вы были здесь!
Я не хочу, чтобы вы видели ее на столе. Руки, сложенные на груди, на узенькой детской груди, простреленной глупым кусочком свинца! Она лежит, как и все мертвецы, никому ненужная, падаль, гнилой мусор… А ведь лицо ее, она вся как живая, те же длинные ресницы, та же полуулыбка, те же мягкие нежные волосы.
Я зарыдал, завыл, прижимаясь к ее твердому холодному тельцу:
– Верочка, Верочка… ты, ты!.. девочка моя!..
Не помня себя, я схватил ее за руку, как живую. И в ужасе отшатнулся: восковая рука с растопыренными пальцами, как выточенная, холодная, неподвижная, – рука какого-то мертвеца была в моей!
Нет тут Верочки! Нет никого! падаль, одна падаль!..
Все падаль, всему конец. Все издохнут, все гниль!
– Ура Антихристу! – дико закричал я и без шапки выбежал вон.
– Извозчик, извозчик!.. – я бросился в пролетку: – К девкам, в публичный дом!
Прошло полгода с тех пор, как произошло только что описанное событие.
Жизнь моя кончена. Я не выхожу из дома и, как сознавшее себя животное, покорно дожидаюсь, когда моя «очередь». Не живу – догниваю!
Вот и вся моя исповедь!
Но на прощанье мне хочется задать вам два вопроса. Один серьезный, а другой – так себе, пустяки, почти что для шутки.
Видите ли, когда я уже совсем кончал свои записки, мне пришел в голову странный вопрос:
Можно ли узнать Христа, не пережив Антихриста?
Я знаю, что в этом вопросе есть какая-то несообразность, но, с другой стороны, и какая-то смутная надежда. Впрочем, об этом сейчас мне как-то страшно думать. Устал я.
А другой вопрос, пожалуй, можно было бы и не задавать.
– Мне хотелось спросить, как же вы в конце концов думаете: исповедь это или роман?…
По поводу «Антихриста» мне был предложен целый рад вопросов. В конечном счете все они сводятся к трем основным:
Во-первых, являются ли «Записки» исповедью?
Во-вторых, в каком смысле автор записок назван «Антихристом»?
И в-третьих, действительно ли я думаю, что узнать Христа можно, только пережив Антихриста?
Я считаю нужным печатно ответить на эти вопросы потому, что ответ на них может уяснить многие неясности в моей книге. А раз я выпускал ее в свет, то есть по совести признавал зачем-то нужной и важной для людей, я не могу не считать столь же нужными и важными свои разъяснения. Тут дело не в каких-нибудь необычайных достоинствах книги, наоборот: недостатки художественного произведения скорее могут оправдать появление этого послесловия, ибо, коль скоро мне не удалось выразить с достаточной определенностью в художественных образах то, что пережито душой, единственное средство хоть сколько-нибудь восполнить невысказанное – это написать послесловие. Во всяком случае, как бы ни было ничтожно значение книги, я полагаю, всякий поймет желание автора быть понятым вполне.
Первый вопрос, едва ли не самый важный для разъяснения «Записок», в то же время и самый трудный. Он настолько интимен, что ответ на него граничит с исповедью.
Однако по двум причинам я считаю для себя возможным, несмотря на всю трудность его, ответить и на первый вопрос. Первая причина заключается в некоторых личных обстоятельствах, о которых говорить здесь неуместно и которые в ближайшем будущем поставят меня в исключительное отношение к жизни, облегчающее возможность безусловной правдивости публичных признаний; вторая причина в глубоком убеждении моем, что наступает время, когда на религиозных людей возлагаются громадные исторические задачи, связанные с не менее громадным личным подвигом. В такое время каждый должен помогать друг другу и нести свой религиозный опыт другим людям, как бы слаб, немощен, недостоин ни был сам.
Итак, первый вопрос почти дословно повторяет последний вопрос «Записок»: «Исповедь это или роман?»
По совести говорю, мне немыслимо было бы односложно ответить на этот вопрос – да или нет. Мне пришлось бы сказать: да, исповедь, да, роман.
Чтобы действительно ответить на вопрос, чтобы действительно разъяснить, в каком смысле это исповедь и в каком смысле роман, я должен, хотя бы в общих чертах, сказать о самом мучительном периоде моего религиозного развития.
Несколько лет тому назад во мне закончился переход от юношеского «гимназического» отрицания к положительной религии.
В отрочестве я отдал дань, как и большинство нашей интеллигенции, и теоретическому отрицанию, и увлечению Писаревым, Михайловским, а в более позднем возрасте увлечению Шопенгауэром и Ницше. Под словами «закончился переход» я вовсе не разумею прекращение всякого рода теоретических сомнений и хотя бы временное приближение к безусловной правде в сфере личной жизни. Нет. Но в смысле теоретическом для меня уже с несомненностью определилось, что в христианстве заключена полнота истины, а в смысле нового отношения к жизни для меня столь же определенно христианство встало уже как задача и смысл моего существования.
Я начинал с радостным восторгом, который поймут все верующие люди, ощущать в себе робкие проблески зарождающейся религиозной жизни, меня начинала волновать таинственная сладостная надежда; хотелось всех полюбить, всем простить, ношу всю взять на свои плечи, хотелось подвига, новой «преображенной» жизни!
Ознакомительная версия.