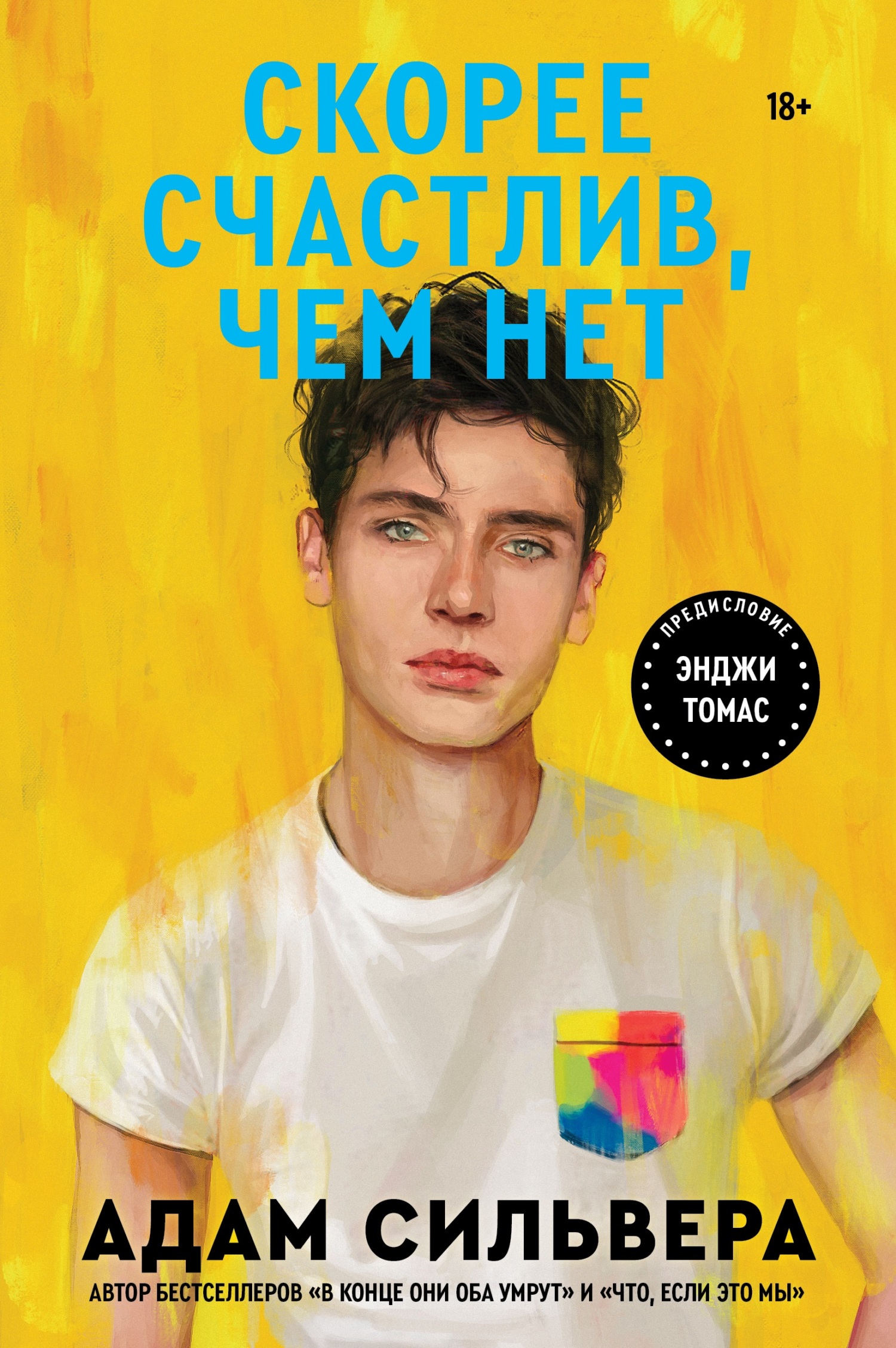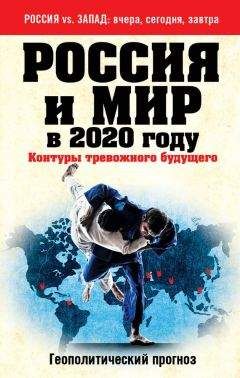И самое худшее – наш с мамой разговор перед операцией.
Воспоминание о том, как я впервые признался ей, кажется одновременно знакомым и незнакомым, как давно выросший школьный хулиган, совсем изменившийся, но в чем-то прежний. Я знаю, что мама знает, а мама знает, что я знаю. Об этом можно не говорить, есть более важные вопросы.
– Когда можно повторить операцию? – С каждым словом говорить все легче. – Я хочу снова стать нормальным. Только на всю жизнь, пожалуйста.
Эванджелин не отвечает. Тишину нарушает только мамин плач.
В моем тоне звенит сталь:
– Ваша операция не сработала… Мы дохренища за нее заплатили, потрудитесь сделать ее нормально.
– Если сердце помнит то, о чем забыл мозг, операция ни при чем, – отвечает Эванджелин.
– Бред собачий.
– Я же тебя предупреждала, что наша область науки еще очень молодая и стопроцентных гарантий пока нет, помнишь?
– Помню. Не хочу помнить.
Я поднимаю взгляд на маму. Она мотает головой:
– Нет, больше я ничего подписывать не буду. Мне чудом вернули сына, я отказываюсь снова тебя терять.
Лучше бы экзорциста мне вызвали, или в конверсионный лагерь на все лето сослали, или еще что-нибудь придумали.
– Можете, пожалуйста, обе уйти? Мне надо побыть одному.
– На пять минут можем, – соглашается Эванджелин. – Больше, боюсь, в текущих обстоятельствах небезопасно.
– Ладно, пять так пять.
Эванджелин берет маму под локоть и подталкивает к выходу.
Мне надо в туалет, но писать в пакет – увольте. Я срываю со лба и груди провода и пытаюсь устойчиво встать. Меня шатает. Какая-то жуткая смесь головокружения и похмелья.
Кое-как, навалившись на стену, доползаю до ванной. Гляжу в зеркало – и мой мочевой пузырь не выдерживает.
Один глаз подбит. Другой весь распух и лиловеет перезрелой сливой.
На лбу красуются несколько зашитых ран, местами присохла кровь – наверно, медсестры побоялись оттирать.
Губа рассечена.
По лицу текут слезы.
Из саднящего горла рвется дикий вой, кулак врезается в зеркало, разбивая его.
В кожу впились осколки стекла. Медсестры вынули их и перевязали мне руку. Одним боевым ранением больше. Теперь меня не оставляют одного ни на секунду – боятся, что в этот раз, не получив желаемого, я вырежу улыбку на горле. Рядом сидит мама, говорит, с утра заглядывал Эрик, но брат волнует меня в последнюю очередь.
– Больше никто не приходил?
– Женевьев и Томас каждый день тебя проведывают, – отвечает мама. – Женевьев ушла вчера поздно вечером, Томас сегодня утром несколько часов сидел. У тебя верные друзья. – Я молча пялюсь в синюю стену. – Женевьев сказала, ты ее бросил.
– Типа в этот раз я тебя не разочаровал?
Мама снова плачет, закрывая лицо ладонями:
– Ты не должен был помнить…
Но я помню. И мне нужна ее помощь, чтобы снова забыть.
Мне снова снится кошмар, который преследовал меня после смерти отца. Он входит в ванную, раздевается, повторяя, что я педик и ради меня не стоит жить на свете. Включает воду, ложится в нее и режет себе вены. Меня затапливает алая волна. Казалось бы, на этом моменте я должен проснуться, но нет. Я задыхаюсь, и задыхаюсь, и задыхаюсь. Несправедливо, что я так страдаю. Я не хотел быть тем, кого он ненавидел. У меня вообще не было выбора. Я просто был тем, кем был.
Таким, как есть.
– Снова кошмар? – спрашивает мама.
Киваю.
Завтракаю, отвечаю на вопросы врачей о самочувствии («дерьмово я себя чувствую») и читаю миллион сообщений от Брендана с извинениями. Не отвечаю. Через пару часов Эванджелин говорит, что ко мне пришли. Томас и Женевьев. Вдвоем. Еще два мира столкнулись против моей воли.
Мама провожает их ко мне и уходит.
Я должен радоваться, что они пришли. Они должны радоваться, что я живой. Но никто не улыбается.
– Раньше ты был посимпатичнее, – наконец произносит Томас. У него темные круги под глазами и вообще вид не лучший. Если бы мы только сегодня познакомились, я бы решил, что ему двадцать два, а не семнадцать. – Ничего гейского, – на автомате добавляет он, не смотря мне в глаза. – Прости, тупая шутка.
– Все нормально, – отвечаю я. Повисает молчание, только Женевьев стучит костяшками по спинке кровати. – Спасибо, что пришли.
– Спасибо, что очнулся, – отвечает Томас, по-прежнему не глядя мне в глаза.
Но он хотя бы пришел. Интересно, сказал ли кто-нибудь Колину. Хотя ему, наверно, пофиг. Вот бы и мне было на него плевать. Хотя тот, на кого мне не плевать по-настоящему, сейчас стоит рядом. Это вообще нормально? Так не должно быть.
– А-Я-Психа арестовали, – говорит Женевьев. – Мать Малявки Фредди рассказала Элси, его переведут в исправительный центр для несовершеннолетних где-то в северных районах.
– Давно пора.
Томас поглаживает ладонью сжатый кулак.
– Когда Брендана выпустили из тюрьмы, я хотел ему двинуть, как ты меня учил, но он мне все не попадался. Наверно, они там огребли от родителей и сидят по домам.
Вряд ли.
– Да забей, – отвечаю я. Двинуть Брендану в челюсть я и сам не прочь.
Мы снова молчим. Похоже, пока я валялся в отключке, они много разговаривали. Надеюсь, не обо мне – с другой стороны, надеюсь, что обо мне. Как они могли разговаривать о чем-то еще, если знакомы только через меня и ничего друг для друга не значат? А если все-таки говорили обо мне, надеюсь, Женевьев не рассказала Томасу, из-за чего я обратился в Летео; я должен был бы сказать ему сам, но не помнил. Рассказывать об этом – не ее дело. Ну и, надеюсь, Томас не рассказал, как я поцеловал его, а он меня оттолкнул.
– Женевьев, можешь пару минут погулять?
У нее такой вид, как будто я ударил ее в челюсть, повалил и запинал ногами.
– Если что, я на улице, – говорит она Томасу, а не мне… и пихает его в предплечье.
Снова кружится голова. Женевьев хлопает дверью, у меня звенит в ушах.
Томас ходит взад-вперед, но я не спускаю с него глаз, как бы ни ныла шея.
– Ну, чего нового? – спрашиваю я.
– Да так, дела сердечные, дела безумные, – отвечает Томас. Внутри меня зреет что-то дурное. Надеюсь, он сейчас не про Женевьев. – Я работал над диаграммой жизни, и вдруг по радио сказали что-то про зависимость от любви. Прикинь, такое бывает. Люди жить без любви не могут. Кажется, я такой. Теперь понятно, почему после периода острой влюбленности я всегда отдаляюсь от девушки и начинаю искать новую. Длинный, как я устал от