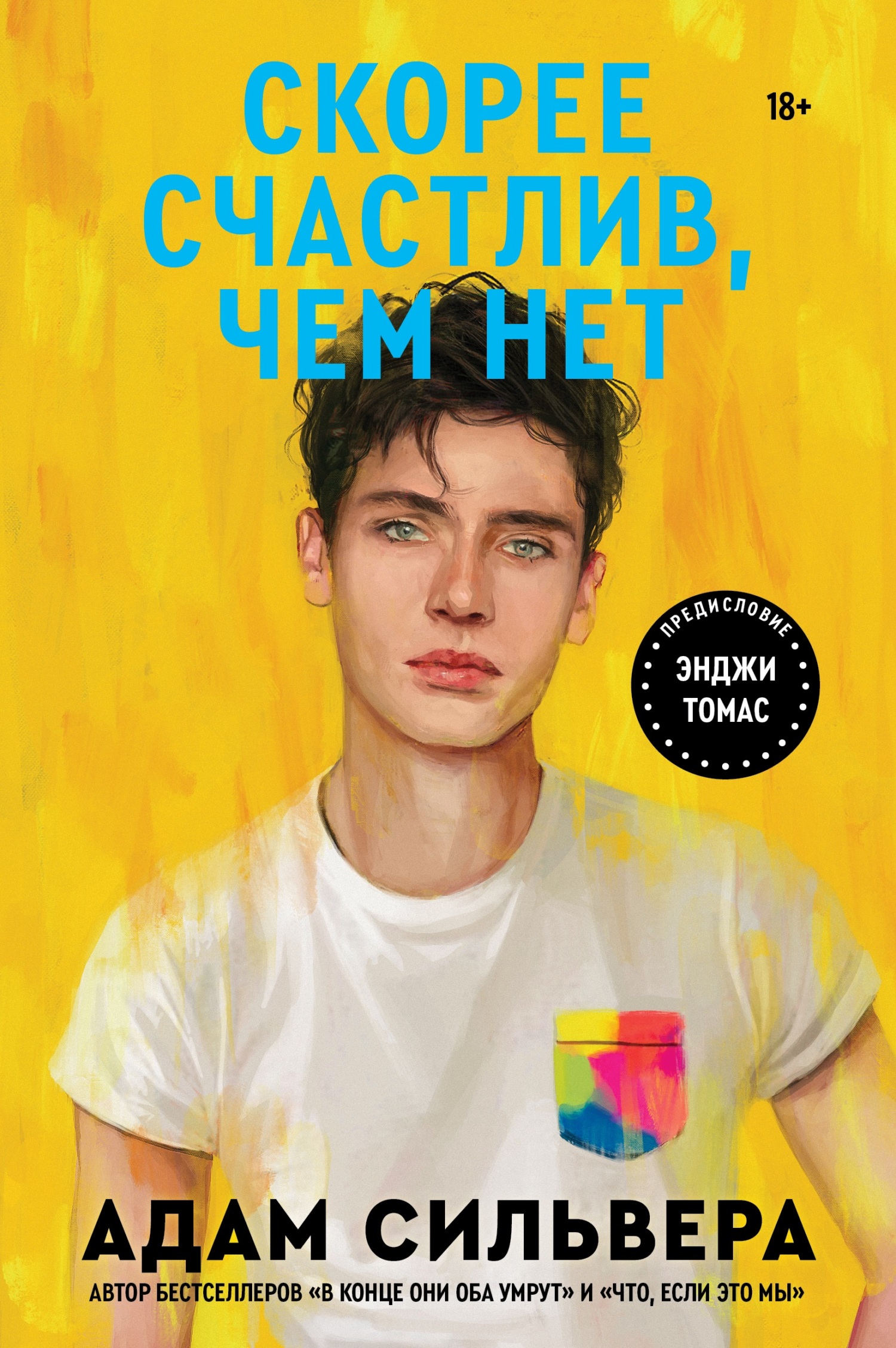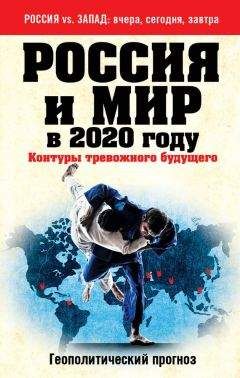меня составить список радостных вещей, на которые можно отвлекаться от нежелательных мыслей. На терапии я всегда натягивал улыбку, хотя разговаривал с ней о совсем невеселых вещах. Слишком уж она хорошая. И старается помочь.
Я беру Женевьев за руку, чтобы она не боялась, хотя вроде как логично наоборот. У нее на ногтях следы засохшей голубой и оранжевой краски.
– Что сейчас рисуешь? – спрашиваю я.
– Ничего интересного. Поиграла немножко с идеей, про которую тебе рассказывала. Ну, типа солнце не садится над океаном, а тонет. Не знаю только, что из этого сделать. – Понятия не имею, о чем она. Ожидаемо.
Женевьев накрывает ладонью мои пальцы: оказывается, я перебирал ими рукав футболки. Она изучила все мои привычки, а я даже толком ее не слушаю.
– Все будет хорошо, малыш. Все же будет хорошо?
Пустые слова. Ни один человек в мире не думает, что когда-нибудь заболеет раком. Никто, входя в банк, не ждет, что там начнется перестрелка.
– Если операцию запорют, это еще не самое страшное. Вдруг она вообще не поможет?
В списке возможных побочных эффектов – обширная потеря памяти, антероградная амнезия и прочая дрянь. Но голос на задворках моего сознания твердит, что лучше стать овощем, чем продолжать быть тем, кто я есть.
Женевьев оглядывает зал ожидания – слепяще-белые стены, психов и терпеливых сотрудников. Наверняка жалеет, что не может все это нарисовать. Увы, чтобы сегодня сопровождать меня, она подписала соглашение о неразглашении, и теперь ей нельзя никому рассказывать, что здесь происходит, а то сдерут дофигища долларов штрафа.
– Да вроде нечего бояться, – говорит она. – Мы же тысячу раз перечитали все брошюрки и видео про счастливых пациентов на целый сериал насмотрели. У всех потом все хорошо.
– Да, но нам же не покажут тех, кого потом всю жизнь с ложечки кормят. – Я изображаю улыбку. Надоело уже что-то из себя изображать. Какая ирония, если вспомнить, зачем я здесь. Но я хотя бы не буду знать, что всех обманываю. Сойдет.
Вдруг, взглянув мне за спину, Женевьев начинает плакать. Я оборачиваюсь. В дверях стоит доктор Касл. Ее глубоко посаженные глаза цвета морской волны почему-то всегда меня успокаивают, даже сейчас; а копна ее чуть растрепанных рыжих волос напоминает бушующее пламя. Я борюсь с подступающей паникой. Доктор, наверно, специально не подходит, чтобы дать мне время попрощаться с Женевьев – и, пожалуй, с самим собой.
Я подхватываю Женевьев за талию и кружу пару оборотов. Знаю, заработать головокружение прямо перед тем, как у тебя поковыряются в мозгу, – дурацкая идея. Я даже не успеваю ни о чем попросить – Женевьев берет меня за руку:
– Пойдем вместе.
С каждым шагом навстречу доктору Касл мне все сильнее кажется, что я шагаю на казнь. В каком-то смысле так и есть – надо казнить ту часть меня, без которой всем станет лучше. Паника куда-то исчезает.
– Я готов, – говорю я доктору без тени сомнения.
Напоследок целую Женевьев – девушку, которая, сама того не зная, помогала мне хранить тайну. Или все же она с самого начала догадывалась? Мы встречались целый год и за все это время ни разу даже не признались друг другу в любви. Это, конечно, ничего не значит, но у Женевьев хватит самоуважения не говорить «я тебя люблю» тому, кто никогда не полюбит ее в ответ.
Я никогда не думал, что однажды ей признаюсь, надеялся унести секрет с собой в могилу, но теперь говорю:
– Жен, ты же все про меня поняла. Завтра все будет иначе, обещаю. Мы будем счастливы друг с другом – по-настоящему.
Она не знает, что ответить. Я целую ее в последний раз, и она вяло машет рукой – наверно, навсегда прощаясь с тем, кого научилась любить несмотря на все преграды. Ничего, скоро я их разрушу.
Я решительно разворачиваюсь и вхожу в дверь. Ужас. Я так запутался и столько врал, что в итоге попал сюда. Но иначе быть не может. Я не Колин, чтобы притворяться, что между нами ничего не было, и тупо забыть все, что было. Я больше не позволю ни одному парню сломать мне жизнь. Я больше не буду ломать жизнь девушке, которая верит, что я ее люблю.
У порога доктор Касл кладет мне руку на плечо.
– Не забывай, ты делаешь это ради собственного блага, – говорит она с британским акцентом.
– Типа я пришел сюда забыть, что вообще это сделал, – пытаюсь я пошутить. Доктор улыбается.
Скоро я забуду, зачем мне понадобилась операция, и саму операцию забуду. Больше не буду помнить, что у нас было с Колином. Перестану выть от тоски по нему. Меня больше никогда не изобьют в поезде за то, что мне нравится парень. Я больше не буду скрываться от друзей, чтобы заняться чем-то запретным. Та часть меня, которая все портит, сегодня умрет. Мне будут нравиться девочки. Отец был бы доволен.
Операция не гарантирует, что я перестану быть сами знаете кем, но изменить свою природу научными методами – мой последний шанс.
Я лежу на узкой койке, на лбу и у сердца наклеено по электроду. Я уже сбился со счету, сколько раз мне что-то кололи и сколько раз спрашивали, все ли в порядке и точно ли я не передумал. Я постоянно повторяю: «Да, да, да».
Вокруг бегают врачи и техники, настраивают мониторы. Другие что-то печатают на компьютерах, колдуют над данными из моего мозга. Доктор Касл не отходит от меня ни на шаг. Она наливает из крана в углу стакан воды, бросает туда две голубые таблетки и отдает мне. Я пялюсь на таблетки и не спешу пить.
– Доктор, со мной все будет нормально?
– Больно не будет, приятель, – отвечает она.
– А сны вы тоже подавляете?
Иногда сны приносят нежеланные воспоминания, иногда оборачиваются кошмарами. Например, этой ночью мне приснилось, как Колин посадил меня на велосипед, не слушая моих протестов, столкнул с крутой горы и, хохоча во все горло, ушел.
– Да. Они могут свести на нет всю нашу работу, – объясняет доктор. – Если бы мы просто стирали память, такой проблемы бы не было. Но для безопасности пациентов мы только перемещаем дурные воспоминания поглубже. Когда мы примемся за работу, тебе не придется даже переживать их. Это было бы слишком сурово. Ты просто крепко-крепко уснешь.
– Обычно так говорят про смерть.
– Мы не жнецы, а скорее добрые духи.
– Я ничего не заподозрю, когда вы станете меня навещать?
– После операции ты