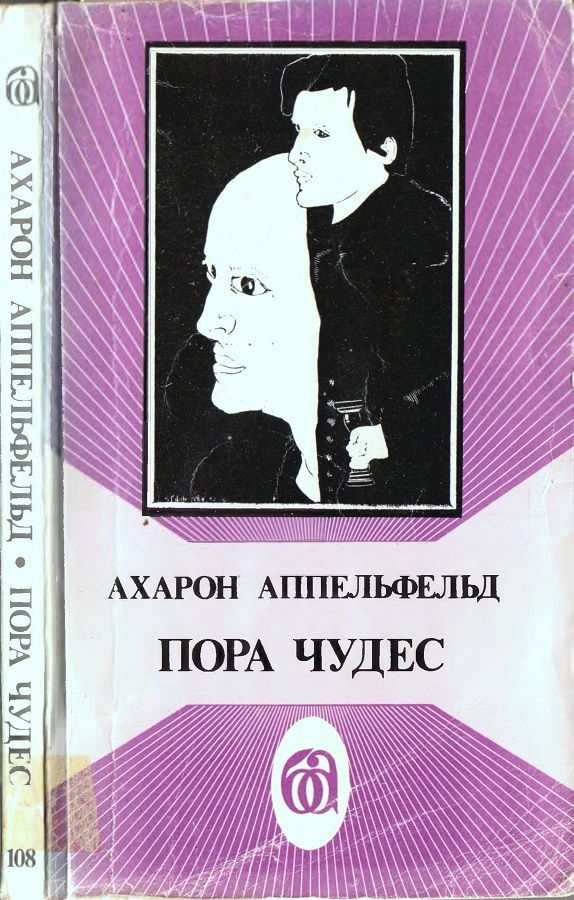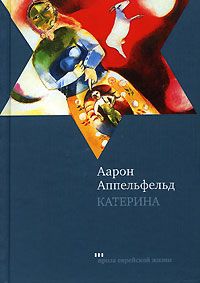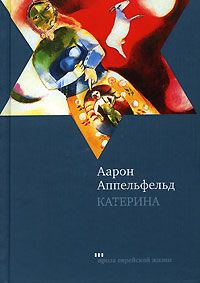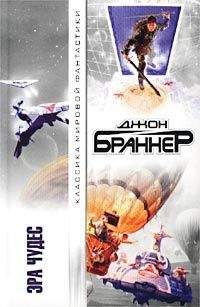тоже относится к этой потере. Придется теперь наверстать упущенное. Он говорил на ужасном немецком языке, но его намерения были совершенно ясны. Отсюда не берет ничего, даже воспоминания о Гиль не увезет с собой. Он говорил с печальной трезвостью, и его вид был выразительнее его слов. Они распрощались, пожав друг другу руки. Японец перешел улицу, и его короткие ноги поспешно пересекли и соседний переулок.
Незаметно Бруно очутился в узком Грабенском переулке. Утренний туман рассеялся, и в переулке стоял чистый и беспримесный дух летнего дождя. В трактире хозяин с женой сидели за завтраком. Они ели, не обмениваясь друг с другом ни словом. Мужчина на вид не более тридцати пяти, но внешностью — точь-в-точь эсэсовец на погрузке железнодорожного транспорта. Из тех, что злобно заталкивали людей в набитые вагоны. Они — живут, сказал себе Бруно с чувством, какого никогда еще не испытывал при этой мысли.
Было уже одиннадцать часов дня, и он проголодался. В ближнем буфете он заказал себе яичницу и кофе. Транзистор оглашал пустое помещение ритмичной музыкой. Буфетчик принес кружку и тарелку и поставил перед ним без единого любезного слова. Рассержен, как понял Бруно, неурочное время для гостей. Он сидел за тем же столиком, за которым не так давно они сидели с Луизой. Воспоминание о Луизе не обрадовало его. Он уплатил и быстро пошел к выходу. Буфетчик проводил его долгим недовольным взглядом. Бруно хотел было вернуться спросить о причине такого нелюбезного приема, но тот ушел на кухню, оставив после себя глухой звук захлопнувшейся двери.
В воздухе стоял запах нехорошей сырости. Бруно забыл, что это время туманов. Мгла рассеялась, но солнца больше не было. Выкрест Фирст стоял на пороге своей лавки и курил трубку. Кроме старости, его поза не выражала ничего.
Гиль он встретил возле ”Цветочного букета”. Выглядит плохо, одета неряшливо и вся, с ног до головы — сплошная обида бар-дамы, которую выбросили на улицу. Несколько дней назад поссорилась с владельцем бара. Потеряла работу. Лицо утомленное, с резкими чертами — лицо решительной женщины, не знающей, к чему применить свою решимость. И, коль скоро не известно, к чему ее применить, остается есть поедом самое себя. ”В нас гнездится что-то порочное”, — слетело у нее с языка. Бруно попробовал переубедить ее, но она стояла на своем. ”В нас какой-то порок”. Теперь это прозвучало упреком. Почему-то Гиль принялась рассказывать о предшествовавших бару временах, о своей семье. В гимназии она пробыла недолго. Алгебра и латынь преследовали ее как кошмар: приносила домой ужасные отметки, отец бесился из-за выброшенных денег. Мать, в жилах которой текла больная еврейская кровь, недолго протянула. Так или иначе, пришлось идти работать. Начала официанткой в ”Континентале”. Правду сказать, хорошие были денечки. Точно хмель в жадном до опьянения теле. Только деньки эти похерило все последующее. ”Знакомо, как собственная ладонь”, — перебил Бруно, пробуя увести ее от этой темы; пустые слова, и Гиль так к ним и отнеслась. Осунувшееся лицо побледнело, суставы пальцев торчали, выдавая скрытую беду. Бруно сказал:
— Найдете другую работу.
Это бесполезное утешение зажгло у нее в глазах темно-зеленый злой огонь.
— Вы думаете, не знают, кто я такая? — сказала она. — Отец потрудился раззвонить повсюду. В приличный клуб мне хода нету, даже в официантки не возьмут.
— Плевать мне было бы на них, — проговорил Бруно.
— Легко сказать.
Слова иссякли, Бруно уже не нашелся и встал:
— Давайте заплатим; уплатим сначала.
Лонка собрала монеты и отнесла их на стойку.
— Вы знаете Фирста? — спросил Бруно, когда они спускались по ступенькам.
— Хозяин табачной лавки?
— Он, вы знаете, из крещеных евреев.
— Я, — сказала Гиль, — не люблю рыться у людей в их прошлом.
И так они и расстались. Гиль не поблагодарила и не спросила, когда они увидятся снова. Худое лицо застыло в ледяном отчаянии. Бруно не стал задерживать и не поинтересовался, куда она собирается идти. Остаться одному — им владело одно это эгоистическое желание.
Он долго бродил без всякой цели. Пальцы наливались странной силой, в ногах ощущалась удивительная легкость. Если б не разоблачительный свет дня, он кинулся бы в реку и переплыл ее. К ночи он пришел в трактир.
И, когда он тут сидел, пил и задремывал, он вдруг увидел то, что во все его дни здесь было от него заслонено: Иерусалим. Деревья на улице Ибн Габирола отбрасывают тени на тротуар, прохладный ветер продувает улицы. Два старика сейчас повернут направо, на улицу Абраванеля. Минна стоит у окна и не сводит глаз со стариков.
Последние дни в Иерусалиме, горесть и ссоры. Минна сидит на кушетке с широко раскрытыми глазами, и в глазах нет любви. Третий выкидыш, самый тяжелый, украл последнюю ее нежность. Губы сжаты, движения обдуманы. Ни единого лишнего жеста. Но именно непривычная эта целесообразность будит в нем смутное беспокойство. Минна взялась снова за свою заброшенную дипломную работу. Стол завален книгами и тетрадями. ”Не нуждаюсь в отдыхе”, — слышит Бруно, когда спросит, бывало, почему она не дает себе покоя. В широко раскрытых ее глазах нет любви. Миновала осень, и холодная зима запеленала ее еще прочней. С каждым днем она становилась все более потерянной для него. Его ноги в шерстяных носках лишь усилили отчуждение. И тут посыпались письма: дифирамбы его отцу из Вены. Как ему быть, так поступить или эдак — этого Минна не говорила. Она была занята дипломом. И он перестал ее уговаривать.
В феврале она возвращалась из университета промокшей и закутывалась в одеяло. В фигуре, свернувшейся на кровати, не было никакой прелести. И, когда он бросал: ”Я ухожу”, она не спрашивала — куда. Краски в ее широко раскрытых глазах загустели, и в них начало посвечивать каким-то резко-зеленым.
Так он и уехал — как бросаются в реку. Минна проводила его в Лод. Глаза ее не переменили краску. Они были зелеными, застывшими.
— Вам пива? — спросила официантка.
— Коньяку, если можно.
— В это время уже запрещается подавать спиртное.
— В таком случае, пива.
Бруно выпил и повторил. И, чем больше он пил, тем ярче проступал в глазах у Минны другой их цвет — фиолетовый, любимый до боли в сердце. Теперь он понял. Что-то в ней, но не она сама. Куча врачей, собравшаяся у ее постели. Эти вопросы. Этот взгляд доктора Грауля. Только когда они убрались, она затряслась от запоздалых