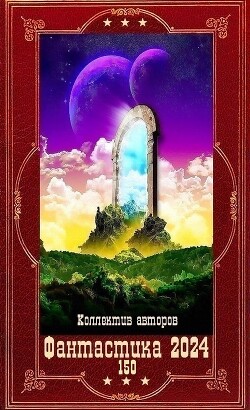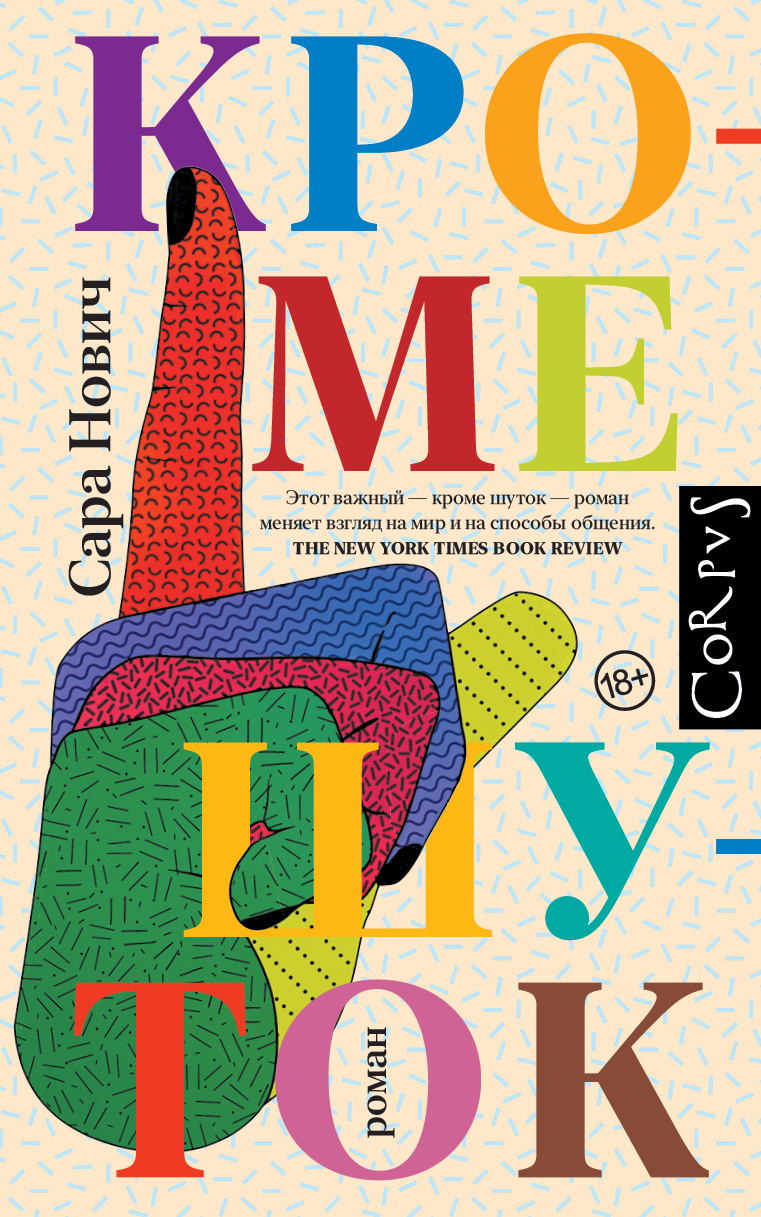отдала мне футболку. Я кивнула и засунула ее в пакет к толстовке Дамира. К тому моменту футболку отмывало уже несколько рук, но пятна вывести так и не удалось.
Петар после пребывания в армии стал подтянутым, остриженные ежиком волосы уже слегка отросли, а рука была затянута в толстенный пластиковый гипс, почему, как я поняла, он и вернулся раньше срока. Он встал на колено и обнял меня, но, видимо, этого ему не хватило, потому что Петар тут же сгреб меня здоровой рукой и так и нес, пока мы не вышли к машине.
Мать Луки осталась стоять в дверях, скрестив от холода руки.
– Спасибо, – сказал ей Петар.
– Спасибо, – присоединилась я.
Петар усадил меня на заднее сиденье рядом с кучкой одежды, учебников и запасных ключей от нашей квартиры. Велосипед, сказал он, в багажнике, и я смогу на нем ездить от них в школу. Мой прошлый замок ему пришлось обрезать, но он купил мне новый, с кодом, и повозился с ним пару секунд, покрутив в толстых пальцах шестеренки с числами, после чего отдал его мне.
– Знаешь, как с этим обращаться?
– Не то чтобы.
Он отвернулся.
– Я тоже.
Марина, дожидаясь нас, сидела на обочине у многоэтажки. Она подозвала меня, и, когда мы обнялись, я ощутила у себя на шее слезы.
– Не плачь, – сказала я, но она только сильней разрыдалась.
– Пойдемте в дом, – сказал Петар.
Он отдал мои вещи Марине и понес меня внутрь.
У Петара с Мариной квартиру переполнило горе, настолько явное, что с нами будто жил четвертый человек. Целую неделю Петар каждый вечер мягко со мной заговаривал, спрашивал, что случилось, но мне еще было непривычно говорить об этом вслух, и в конце концов он так отчаялся, что схватил меня за плечи и начал трясти. Больно не было, но он так тряхнул меня, что я испугалась, и потом попятился, извиняясь и придерживая больную руку.
– Прости. Мне просто надо знать. Я не могу не знать.
Мне не приходило в голову, что Петар с Мариной оплакивают смерть двух лучших друзей и испытывают ту же боль, что и я, и с этим осознанием я набралась немного смелости. Я рассказала про офис «Медимиссии», про заставу, про то, как оказалась в той деревушке, в долине. Про «Тайное убежище» я говорить не стала, но Петару моего ответа хватило, и он не стал расспрашивать меня о пропущенном времени.
Я вернулась в школу и, кроме Луки, ни с кем больше не общалась. Со мной он всегда оставался серьезным, иногда только нечаянно выдавая радость жизни, которая в мое отсутствие никуда не исчезла. Но Петар в итоге рассказал учителям о случившемся, а мои одноклассники подслушали все в коридорах. И все всё узнали. Так что теперь я тоже получила неоспоримое первенство в очереди к велогенератору.
Пошел снег. Но радость, переполнявшую город в снегопад, притупили дымок после налета и новый набор продовольственных ограничений. Зима всегда была моим любимым временем года, я обожала гулять по Трг и пить глинтвейн, есть копченые колбаски и болтать с торговцами в киосках, продающими вырезанные из дерева кораблики и распятия. Я обожала канун Рождества, когда люди выходили на площадь с хлопушками и распевали песни, а я могла сидеть у отца на плечах. Но в деревне праздники пролетали никем не замеченными, а если в Загребе в этом году их и справляли, то к моему возвращению следы празднования уже успели подчистить. В памяти у меня не сохранилось никаких воспоминаний о тех январских деньках, кроме странного меланхоличного напева из рождественского псалма, исполненного на органе из былых времен.
Петар с Мариной начали ругаться, как будто развлечения ради. Раньше я между ними не замечала, чтобы они так бросались обвинениями и срывались друг на друга. Петар перестал ходить на мессу, а Марина, наоборот, зачастила. Петар мог часами курить, просиживая на телефоне за тайными переговорами, а Марина направляла всю свою психическую энергию на уборку, а точнее, драила поверхности, уделяя особое внимание швам на плитке. Она призывала Петара заняться чему-нибудь полезным, а он показывал на телефонную трубку и отворачивался, прикрывая свободное ухо, чтобы заглушить голос Марины.
Петар начал расспрашивать меня в подробностях о приеме в «Медимиссии». Но мне было известно немного – только то, что Рахела находится в специальной детской клинике в Филадельфии и что о ней заботится назначенная по программе семья. Родители ни разу с ними не общались, поэтому имен я не знала.
– Я больше ничего не знаю, – отвечала я, утомленная этими разговорами.
– Просто повспоминай. Вдруг в голову придет какая-то полезная зацепка.
– Полезная для чего?
По ночам они грустили, что было еще хуже ссор. Марина говорила мягко и неразличимо, но скрипучий голос Петара с легкостью преодолевал стену между комнатами.
– Сволочи. Не понимаю просто, как тут быть.
Марина быстро что-то ответила, и в кровати заскрипели пружины.
– Черт бы его подрал, – сказал Петар, когда кто-то из них выключил лампу. – Зачем я вообще молюсь?
Как-то раз в субботу Марина настояла на своем, и Петар согласился сходить в церковь «по делам исключительно похоронным». Не считая поминовения усопших и праздников, моя семья нечасто посещала церковь, особенно после того, как заболела Рахела. Я заучивала молитвы и, как буквально все мои знакомые, принимала первое причастие, но эмоциональная привязанность к церкви всегда оказывалась выше моего понимания. Религия, решила я, становится понятнее с возрастом.
Мы с Мариной и Петаром сходили в Загребский кафедральный собор и простояли целый час у поминальных свечей, преклонив колени и позвякивая четками до тех пор, пока я не стерла кончики больших пальцев о дешевые спички, а на коленях от холодной плитки проступили синяки.
Потом мы прогулялись до Трг, где было заложено начало самодельного памятника. Стену сложили из красного кирпича, и на каждом значилось имя убитого или пропавшего без вести. В длину она уже растянулась на пару сотен штук. Я взяла из кучи свободный кирпич, нацарапала на нем имена сразу обоих родителей, не желая их разлучать, и приложила его к начатому ряду. Марина купила еще одну свечку, церковную, которая могла гореть и на улице, и оставила ее мерцать в вечерних сумерках.
Петар начал вести себя еще более странно. Он приходил и уходил без предупреждений, а когда бывал дома, прямо не мог на месте усидеть и расхаживал туда-сюда по кухне, ероша волосы здоровой рукой. Глядя на его нервозность, я