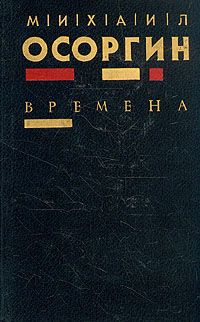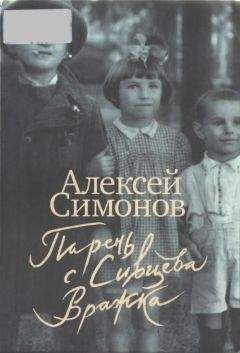Стена против стены стояли две братские армии, и у каждой была своя правда и своя честь. Правда тех, кто считал и родину, и революцию поруганным новым деспотизмом и новым, лишь в иной цвет перекрашенным насилием,- и правда тех, кто иначе понимал родину и иначе ценил революцию и кто видел их поругание не в похабном мире с немцами, а в обмане народных надежд.
Бесчестен был бы народ, если бы он не выдвинул защитников идеи родины культурной, идеи нации, держащей данное слово, идеи длительного подвига и воспитанной человечности.
Бездарен был бы народ, который в момент решения векового спора не сделал бы опыта полного сокрушения старых и ненавистных идолов, полного пересоздания быта, идеологий, экономических отношений и всего социального уклада.
Были герои и там и тут; и чистые сердца тоже, и жертвы, и подвиги, и ожесточение, и высокая, внекнижная человечность, и животное зверство, и страх, и разочарование, и сила, и слабость, и тупое отчаяние.
Было бы слишком просто и для живых людей и для истории, если бы правда была лишь одна и билась лишь с кривдой: но были и бились между собой две правды и две чести,- и поле битвы усеяли трупами лучших и честнейших.
В эти дни пал молоденький юнкер, которого все звали Алешей,- мальчик сероглазый, недавний гимназист. Убивал с другими - и был убит сам. Лежал на спине, и взор его невидящий глядел в небо,- за что так рано? Пожить бы еще хоть малый ряд денечков! И уже была украшена грудь его георгиевской ленточкой,- за подвиг в братской войне. Погиб Алеша!
В эти дни был убит и солдат-командир, герой красного знамени Андрей Колчагин. Тяжело раненный в голову, он споткнулся о труп Алеши и упал рядом.
Не спросив их имен, не взвесив их святости и греховности,- одним пологом заботливо прикрыла их вечная ночь.
ВЛАДЕНИЯ ЗАВАЛИШИНА
Когда не было операций, Завалишин ходил по коридорам и комнатам места службы, сонный, опустившийся, с опухшими глазами. Знали его все, но настоящих приятелей у него не было.
Были и такие, которые сторонились от него, никогда не здоровались за руку, а то и старались не замечать: отпугивало их страшное ремесло Завалишина.
Заходил иногда в комендантскую и в канцелярию, молча садился на лавку, спрашивал, когда будет выдача продуктов и когда получать по требовательным ведомостям. Ведомости он составлял аккуратно, кривым, но ясным почерком, после каждого случая отмечал число месяца, число штук и номера ордеров, прилагая и документ. В этом отношении был Завалишин строг и даже в пьяном виде не выполнял работы, не получив оправдательного документа с подписью и печатью.
У Завалишина была одна, Анна Климовна, к которой раньше хаживал он по субботам; теперь он ее поселил у себя на квартире, но видал ее больше днем, в обеденный час. Женщина еще молодая, но хозяйственная, степенная. О профессии Завалишина знала точно, но особого интереса к этому не проявляла. Узнала, подивилась и сейчас же привыкла; хороший же заработок сожителя ее радовал. Хоть и не любил он говорить о своей работе,- все же старалась расспросить, много ли предвидится на очереди, не прибавят ли с головы на дороговизну и по случаю того, что деньги опять подешевели. С интересом смотрела, когда сожитель возвращался с работы в новом костюме или новых сапогах; знала, что, по обычаю, получал он освободившуюся одежду. Прилаживала, выпускала рукава - если коротки, мыла принесенное нечистое белье. Все - спокойно, степенно, хозяйственно. Когда Завалишин возвращался домой пьяным,- укладывала спать, не очень ругая: понимала, что такая уж работа, не простая, не выпивши - трудно. С преддомкомом Денисовым установила Анна Климовна добрые отношения; может быть, даже принимала его, когда выдавались у Завалишина особо рабочие дни и он почти не заходил домой.
Особо рабочие дни выдались в августе и сентябре, когда ликвидировали бандитов. В эти дни Завалишин трезвым работать отказывался. Водку для него всегда припасали - даже не приходилось самому заботиться. Случалось и днем работать. Однажды пошел Завалишин на Сретенку в вещевой склад получать по ордеру фуражку и не успел выбрать по голове, как за ним прислали. Нехотя пошел, кончил дело, написал и сдал ведомость,- а когда вернулся на склад, все лучшие кожаные фуражки уже разобрали. Долго ворчал, не мог успокоиться.
Пропуск имея повсюду, как человек нужный и важный, с особой охотой заходил Завалишин в надворный флигель дома номер четырнадцать, где помещалась общая подвальная камера, прозванная Кораблем смерти. Сюда его тянуло больше потому, что в яме чаще всего сидели бандиты, народ понятный, аховый, о котором сомненья быть не может. В политиках Завалишин не разбирался, не понимал ясно, почему одни сидят, другие на воле, третьих выводят в расход. Здесь же доступнее, вроде как бы свои; либо ты его, либо он тебя. Хорошо ругаются, друг друга знают и на смерть идут параднее, только обязательно просят выкурить папироску. Многих из них знавал на воле "комиссар смерти" Иванов и о многих рассказывал Завалишину истории. И очень удобно рассматривать их сверху, с балкона, окружающего их яму. Иных знал в лицо хорошо - давно сидели.
Знали в лицо и Завалишина. Когда он подходил, праздный, скучающий, тупой и равнодушный,- внизу, в трюме Корабля, воцарялось полное молчание, еще более мертвое, чем когда приходил комиссар Иванов, вызывавший по спискам, сам из бандитов и, может быть, потому для многих сидевших как бы человек близкий.
По всем этим помещениям Завалишин гулял лишь в свободное время, когда не был очень пьян и когда было скучно от безделья. Местом же главной его работы был низкий и темный подвал в том же доме, но только с особым входом со двора; со стороны Малой Лубянки - от ворот налево первая дверь.
Приходилось, впрочем, работать и в гараже Варсонофьевского переулка, близ церкви Воскресенья. Помещение куда светлее и просторнее, но было оно Завалишину как-то не по душе, менее привычным, чужим. Первое же время, когда для операций увозили за город, приходилось Завалишину вместе со всеми приговоренными иной раз в куче на одном грузовике кататься в Петровский парк. Это уж совсем было хлопотно и неудобно,- но, по новому делу, надо было привыкать; да и работал он тогда не один. Позже ввели обычай увозить за город не людей, а уже "жмуриков", и не прямо с места операции, а через Лефортовский морг.
У себя, в главном своем помещении, в подвале, работал Завалишин один, без всяких помощников: какая может быть помощь в таком деле, только суета и лишний разговор. Как полагается, провожали к нему до коридорчика, подталкивали к открытой двери, сами выходили обратно и наружную притворяли, пока не кончит; а остальное было его единоличной заботой,- и ничего, никаких недоразумений не случалось особенных, шел каждый сам на свет из темного коридорчика. Ордера Завалишин получал раньше на руки: по ним и принимал клиентов, с фамилией не справляясь, но по точному счету, ни больше ни меньше.
В свободное время Завалишин редко заходил в подвальчик - не любил его. Только - случалось - забирался сюда совсем пьяным, замыкался на ключ, садился на лавку против пулями изрытой стены и выл невеселые песни, а то и стрелял, просто так, чтобы пахло порохом, а не одной подвальной кислятиной. Но не спал здесь - боялся привидений. Ключ от подвала всегда носил при себе, выдавая только для уборки бабам; мужчины уборки гнушались.
Почти никого из высокого своего начальства Завалишин не знал, да и не стремился узнать. На собрания, выборы и митинги не ходил, ничем посторонним, помимо прямого своего дела, требовательных ведомостей и выдач, не интересовался, даже в списках служащих значился простым надзирателем. Но как ни мал он был,- он твердо знал, что он среди всех других - человек особенный, самый нужный и самый независимый, которого потому и кормят, и задаривают, и боятся. Безо всякого другого обойтись можно, и всякого другого можно заменить. Но нельзя обойтись без Завалишина, и заменить его некем, во всяком случае - не скоро найдешь. Поэтому Завалишин, в припадках скуки и в дни бездействия, позволял себе капризы и не раз грозился бросить работу. Тогда ему увеличивали расценку или просто задабривали его бутылкой хорошего спирта.
Дни особой, исключительной работы выпали в октябре, после взрыва в Леонтьевском переулке. Это были настоящие страдные дни.
У САНОВНИКА
Было очень холодно. Но, по счастью, у Танюши сохранились старые ботики. Когда приходилось выезжать в рабочие районы на концерты, Танюша надевала валенки поверх башмаков и снимала их только перед тем, как выходить на эстраду. Исполнив свой номер и на бис, она с наслаждением снова прятала ноги в теплые валенки и так ждала, пока подадут грузовик, чтобы развозить по домам участников вечера.
Но идти в Кремль в валенках Танюша не решилась: все-таки - в Кремль. И старые ботики пригодились.
У Троицких ворот солдат взял пропуск, отнес в каморку и вынес обратно с печатью. Затем Танюша по тропке, протоптанной у стены Дворца, опасливо шла мимо вала чистого, скатанного с дороги снега. Затем через площадь - все по тропке. У ворот прежнего здания судебных установлений пришлось опять предъявить пропуск. В дверях снова - но уже в последний раз. Внутри здания ей указали дорогу - подняться наверх и идти правым коридором.