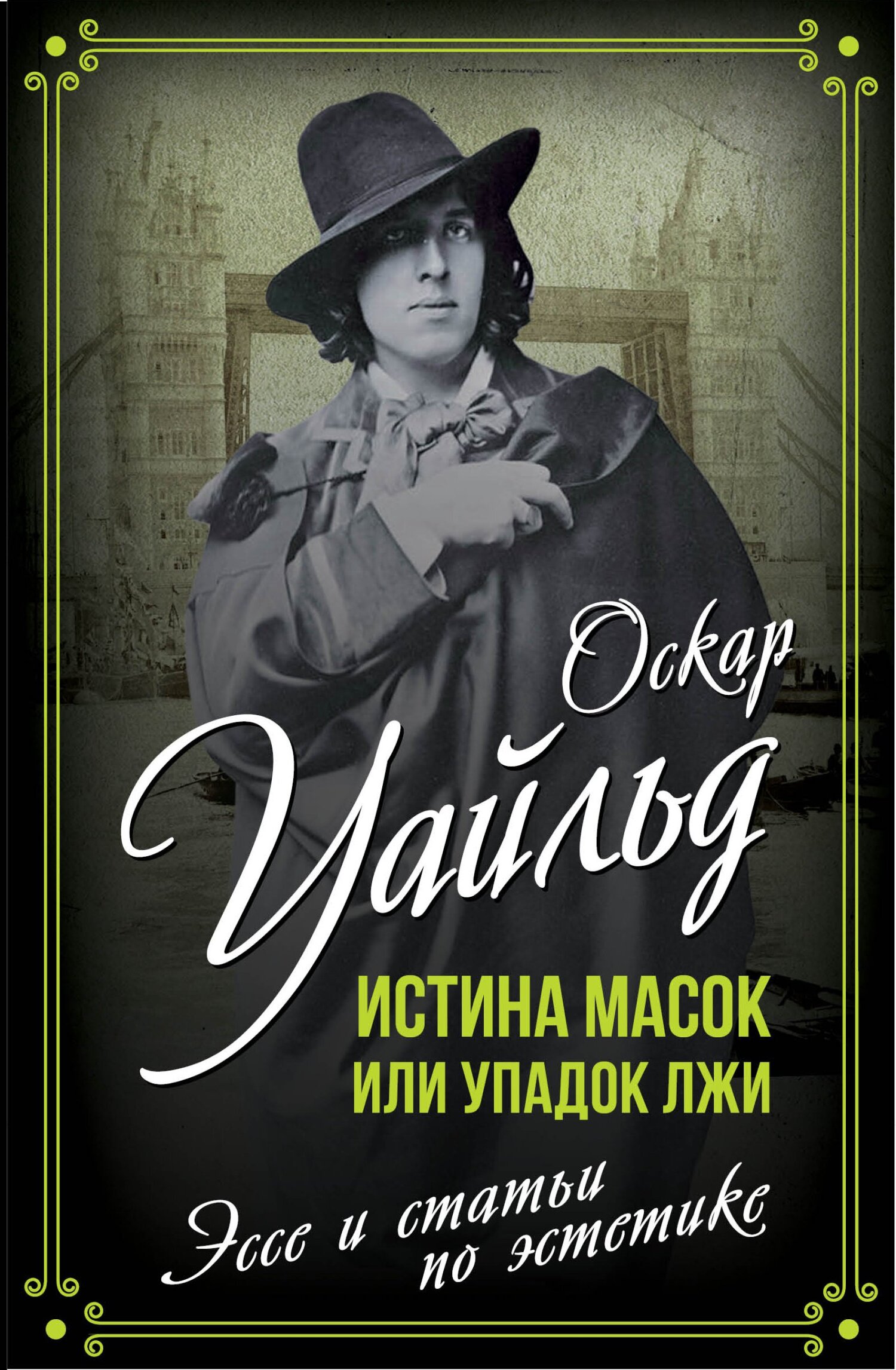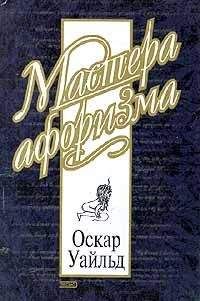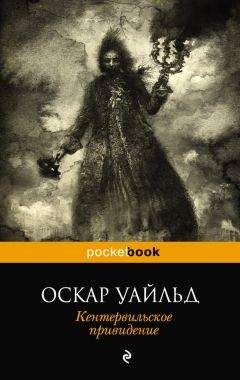не было также. В произведениях этих обоих поэтов многое нужно отвергнуть, многое неспособно нам дать то полное чувство покоя и безмятежности, которое свойственно всякому прекрасному созданию искусства. Но Китс как бы живое воплощение этого чувства, и оно вылилось лучше и полнее всего в его восхитительной «Оде к греческой урне»; этот дар отбора господствует также в пышной процессии «Земного рая» у Вильяма Морриса и в рыцарях и дамах Бёрн-Джонса.
Тщетно призывается муза поэзии — хотя бы и трубным гласом Уолта Уитмена [165] — эмигрировать из Ионии и Греции и прибить к Парнасу табличку: «За отъездом сдается внаем». Зов Каллиопы еще не умолк, азиатский эпос не вымер; Сфинкс отнюдь не безмолвствует, и не высох Кастальский источник. Ибо искусство есть сущность жизни, и ему неведома смерть. Искусство — абсолютная истина, и ему нет дела до фактов. Я помню, как Суинберн утверждал за каким-то обедом, что Ахилл даже в наше время реальнее и жизненнее Веллингтона — не только интереснее как тип, не только благороднее, но именно реальнее и «позитивнее».
Литература всегда должна покоиться на принципах, а идеи данного времени ни в коем случае не являются принципами. Ибо для поэта все страны и все эпохи — одно; материал, над которым он работает, вечно один и тот же. Прошлое и будущее — ему все равно, всякая тема — по нем! Паровозный свисток не испугает его; аркадская свирель не утомит; для него существует одно только время — мгновение художественного творчества, только один закон — закон формы, только одна страна — страна красоты, отдаленная от реального мира, но более близкая нашей душе, а потому и более долговечная, проникнутая тем покоем, который осеняет лица греческих статуй и который происходит не оттого, что мы избегаем страстей, а оттого, что мы до конца проникаемся ими. Печаль и отчаяние не нарушат такой безмятежности, а только усилят ее.
И таким образом происходит, что тот, кто как будто стоит дальше всех от своей эпохи, отражает ее лучше всего, потому что он очистил жизнь от всего случайного и преходящего, очистил от того «тумана вульгарной фамильярности, который затемняет для нас самые первоосновы жизни».
Эти странные сивиллы с безумными глазами, навеки застывшие в вихре экстаза, эти титанически могучие пророки, обремененные чем-то мистическим, с напряжением добывающие тайну вселенной — стража и слава Сикстинской капеллы в Риме, — не говорят ли они нам больше о духовной сущности итальянского Ренессанса, о мечте Савонаролы и о преступлениях Борджиа, чем могут сказать о духовной сущности голландской истории все сварливые мужланы и стряпухи нидерландских картин?
Точно так же и в наши дни две самые жизненные тенденции девятнадцатого столетия — тенденция пантеистически-демократичная и тенденция ценить жизнь во имя искусства, — обе нашли наиболее полное и совершенное выражение в поэзии Шелли и Китса, которые, однако, слепцам-современникам казались заблудшими в пустыне проповедниками каких-то безжизненных туманностей.
И я помню, как в беседе со мною о современной науке Бёрн-Джонс мне сказал: «Чем больше будет материализма в науке, тем больше ангелов буду я рисовать: их крылья — мои протесты в защиту бессмертия души».
Но здесь мы переходим к духовным умозрениям, лежащим в основе художества. Где же, в какой области искусства нам искать ту широту общечеловеческой симпатии, которая является непременным условием всякого благородного произведения? Где же в искусстве искать нам то, что Мадзини назвал бы общественными идеями, в противоположность идеям личным? По какому праву я требую, чтобы художник любил человечество и был его верным рыцарем? Мне кажется, я знаю по какому.
Какую бы великую идею ни взял себе в помощь художник, это дело его души. Как Микеланджело, он может принести нам суровое правосудие или мир, подобно Анджелико; как великий афинянин, он может прийти к нам с печалью или с весельем, как сицилийский певец; и нам ничего не остается: только принять его участь, сознавши, что мы совершенно не в силах вызвать улыбку на скорбных устах Леопарди или отягчить безмятежную ясность Гёте какой-нибудь нашей тревогой.
Но эти вещания художников лишь тогда будут признаны несомненными истинами, когда уста, изрекающие их, зажгутся огнем красноречия, а в очах будет отблеск каких-то дивных видений, и есть одно-единственное подтверждение их непререкаемой правды — непогрешимая красота и совершенная форма, ее выражающая, и здесь, и только здесь, в этом радостном приятии красоты, все его социальные идеи. Социальная идея искусства не в том, чтобы без надобности вызывать у вас смех или некстати успокаивать вас; она не в сюжете, а в форме — в очаровании линий, в чуде красок, в радующей прелести рисунка.
Большинство из вас, должно быть, видели тот великий шедевр Рубенса, что находится в Брюссельской картинной галерее, — пышное великолепие нескольких лошадей и всадников, схваченных в самый пламенный и самый прекрасный миг, когда алым знаменем уловлены ветры, а воздух освещен сверканием доспехов и ослепительной яркостью плюмажей. Да, это — великая радость в искусстве, хотя по этому золотистому холму, изображенному на картине, проходят израненные ноги Христа, и на казнь Сына Человеческого мчится эта дивная кавалькада.
Но мы стали слишком рассудочны, и наш беспокойный интеллект недостаточно теперь восприимчив для чувственных элементов красоты; так что подлинное влияние искусства недоступно большинству из нас; только немногие, ускользнув от тирании души, постигли тайну этих высоких мгновений, когда мысль совершенно отсутствует.
И в такой бездумности истинной красоты — причина того влияния, которое оказало на Европу восточное, азиатское искусство. Вот почему мы так увлеклись всякими японскими изделиями. Слишком тяжкое бремя рассудочных сомнений и мучительных духовных трагедий возложил на искусство Запад; а Восток навсегда остался верен первичным, чисто декоративным задачам искусства.
При оценке какой-нибудь очаровательной статуи ваше эстетическое чувство вполне и до конца удовлетворено прекрасным очертанием мраморных уст — хоть они и не стенают, как наши, — и благородными линиями рук — хоть они и неспособны нам помочь.
В первичном, основном своем виде картина имеет не более смысла и не более поучительности, чем прекрасный обломок венецианского стекла или голубой изразец со стены Дамаска, это просто прекрасно раскрашенная поверхность — и только.
Не житейскими или метафизическими истинами всякая изысканно-прекрасная картина должна трогать душу — и действительно трогает ее. Но то чисто живописное очарование, которое, с одной стороны, не прибегает ни к каким литературным эффектам, а с другой — не является простым результатом легко усвоенной технической ловкости, происходит от некоторого творческого, изобретательного умения обращаться с красками.
Почти всегда в нидерландской живописи и часто в картинах Джорджоне