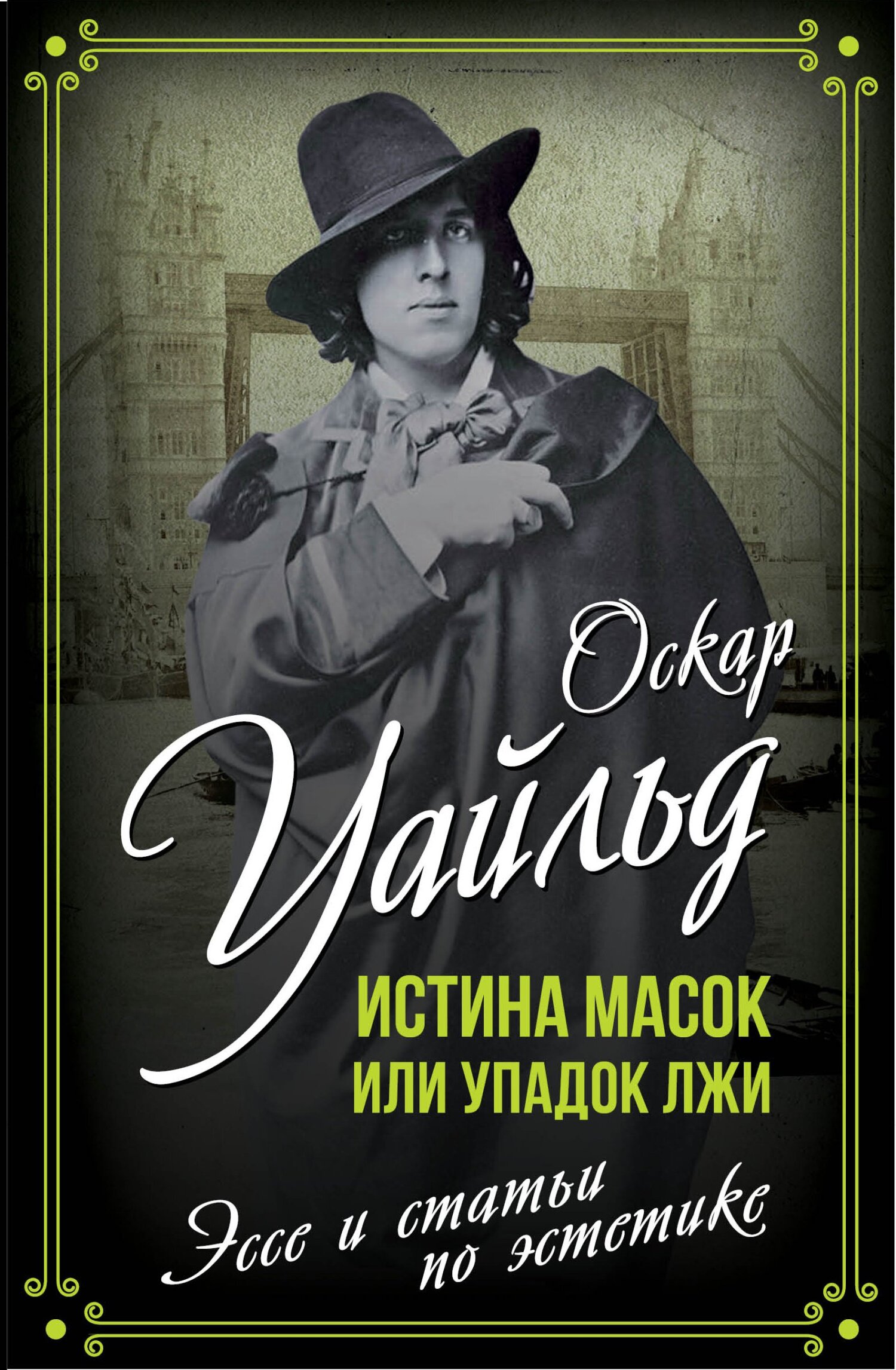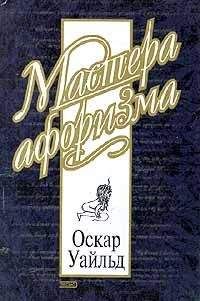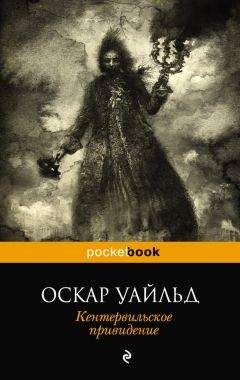Армады, может ее создать.
Шелли чувствовал, что нашему движению не хватает именно драмы, и показал нам в своей великой трагедии «Ченчи», каким состраданием и ужасом он мог бы очистить наш век, но, кроме этой трагедии, английский гений девятнадцатого века тщетно пытался излиться в какой-нибудь драматической форме.
Скорее всего, к вам, американцам, надлежит нам теперь обратиться — и ждать, что вы завершите и усовершенствуете наше великое движение, ибо в самом воздухе, в самой жизни Америки есть поистине что-то эллинское, что-то такое, в чем веселость и сила елизаветинской Англии выразились так могуче, как никогда еще не выражались в нашей старинной культуре. Ибо по меньшей мере вы — молоды, «голодные поколения вас не затопчут в грязь», воспоминания былого не тяготят вас своим непосильным бременем, прошлое не дразнит вас развалинами красоты, когда тайна ее создания утрачена. Самое отсутствие традиции, легенд и преданий, которое, как боялся Джон Рёскин, должно было отнять смех у ваших рек и свет у ваших цветов, может стать для вас источником новой свободы и силы.
Способность говорить в литературе с той самой беспечностью и прямотой, с какою движутся и действуют животные, с таким же непогрешимым чувством, какое бывает у лесных деревьев или придорожной травы, определено одним из ваших поэтов как высшее торжество искусства. И достигнуть такого торжества вы, может быть, более призваны, чем другой какой-нибудь народ. Ибо голоса, что витают в горах и в морской глубине, не об одной только вольности поют нам свои дивные песни; слышатся и другие зовы на обвеянных ветрами вершинах и в великих безмолвных пучинах, — только прислушайтесь к ним, и они раскроют пред вами все волхвование нового вымысла, все сокровища новой красоты.
«Я предвижу, — говорил Гёте, — зарю новой литературы; ее весь народ будет вправе считать своею, потому что каждый внес кое-что в ее созидание». А если это так и если к тому же материалы для такой же великой цивилизации, как европейская, в изобилии лежат вокруг вас, то вы можете меня спросить: какая же вам будет польза от изучения наших поэтов и наших художников? Я могу вам ответить на это, что разум волен работать над любой художественно-исторической проблемой и безо всяких дидактических целей, ибо у разума одна только потребность: чувствовать себя жизнедеятельным, — и то, что когда бы то ни было занимало людей, не может не быть подходящим материалом для культуры.
Я могу вам также напомнить, чем обязана вся Европа мукам одного флорентинца, сосланного в Верону [169], а также тому обстоятельству, что у маленького ключа в Южной Франции Петрарка был в кого-то влюблен; даже больше, я могу вам напомнить, что и в наш тусклый материалистический век простое изображение незатейливой жизни одного старика, вдали от сутолоки больших городов, среди озер и туманов холмистого Камберленда [170], открыло пред Англией такие сокровища новой радости, в сравнении с которыми все ее пышные богатства так же бесплодны, как то море, которое она сделала своей проезжей дорогой, и горьки, как тот огонь, который стал ее покорным рабом.
Мне кажется, изучение наших художников даст вам еще кое-что: вы узнаете, что такое настоящая сила в искусстве; конечно, вы не должны подражать нашим великим творцам, но, мне кажется, вам нужно проникнуться их поэтическим темпераментом, их художественным отношением к жизни.
Ибо в целых нациях, как и в отдельных людях, если творческий пыл не сопровождается также критико-эстетическим проникновением, он истратится понапрасну и ничего не создаст, по недостатку ли художественного чутья, или оттого, что художник ошибочно примет содержание за форму, или оттого, что поставит себе какой-нибудь ложный идеал.
Ибо различные духовные формы воображения естественно сливаются с чувственными формами искусства, и разграничить одни от других, утвердить пределы каждого вида искусства и в этих пределах усилить его выразительность — такова одна из задач, которые ставит пред нами культура.
Не в усилении нравственного чувства нуждается ваша словесность, ведь нет ни нравственных, ни безнравственных стихов: стихи бывают хорошо написанные и плохо написанные. И часто нравственный элемент в искусстве, внесение в эту область критериев добра и зла свидетельствуют о некотором несовершенстве художественных образов и вносят диссонирующую ноту в гармонию творческих вымыслов: всякое хорошее творение добивается исключительно художественных эффектов. «Очень опасно, — сказал Гёте, — искать только в том культуру, что до наглядности нравственно. Все великое способствует цивилизации, едва мы это величие постигнем».
Но у вас и в городах и в книгах (да позволено мне будет сказать!) не хватает определенных канонов хорошего вкуса, углубленного чувства красоты. Всякое высокое произведение искусства принадлежит не только тому или иному народу, но и вселенной. Политическую независимость нации не нужно смешивать с ее духовной обособленностью. Ведь духовную свободу вам даст ваш благородный быт и вольный воздух, окружающий вас, а у нас вы научитесь классической сдержанности форм.
Ибо «всякое великое искусство — искусство изысканно-нежное. Грубость — еще далеко не сила, и резкость не то, что мощь. Художник, сказал Суинберн, не смеет быть заикой; его речь должна быть ясна».
Для художника в этом ограничение свободы. Здесь источник и показатель его силы; недаром все великие стилисты — Данте, Софокл, Шекспир — были в то же время самые мудрые, самые проникновенные художники.
Полюбите искусство ради него самого — и вы обретете в нем все остальные ценности.
Преданность красоте и созиданию прекрасного является пробным камнем всех великих цивилизованных народов. Пусть философия учит нас равнодушно взирать на страдания наших ближних, а наука сводит наше моральное чувство к какому-то сахаристому выделению организма, одно лишь искусство превращает жизнь каждого человека не в спекуляцию, а в священное таинство, оно лишь одно дарует целому народу бессмертие.
Ибо красоту, и только ее, не властно разрушить время. Философские системы рассыпаются, как песок, религии падают одна за другою, как сухие осенние листья, но то, что прекрасно, есть сокровище вечности и — радость на все времена.
Войны, и бряцание оружия, и восстание народов, и кровавые встречи у осажденного города или на затоптанном поле будут во веки веков. Но я полагаю, что искусство, создавая для всех народов одну общую духовную атмосферу, могло бы, если уж не осенить весь мир серебряными крыльями мира, то хоть сблизить людей настолько, чтоб они не резали друг друга из-за пустого каприза, из-за глупости какого-нибудь короля или министра, как это бывает в Европе. Тогда братство не явится в мир с руками братоубийцы Каина, а вольность не предаст свободу Иудиным лобзанием анархии, ибо только