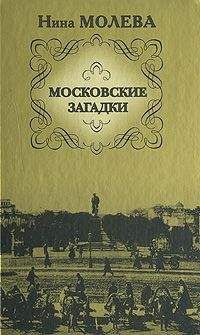продолжает:
– Объемы экспорта «сырья» решительно отстают от намеченных! Наша первоочередная задача на данном этапе организовать работу в три смены, чтобы до отправки первого судна наверстать упущенное!
Анна протягивает Глебу Анатольевичу папку с описями. Бонч-Осмоловский кивает на представителя центра Елизарова:
– Кириллу Леонидовичу передайте, голубушка.
«Скорее бы сунуть папку этому красному экспроприатору, который продает ее Вермеера куда-то за рубеж, и не видеть его самого». – Анна протягивает папку, не поднимая глаз.
Начальник из центра замолкает. После паузы берет папку у нее из рук. Анна поворачивается, чтобы быстрее выйти из зала, как вдруг…
– Где же ваша собака?
Голос кажется пугающе знакомым.
– Собака? У меня никогда не было соба…
Анна поднимает глаза…
И видит бритоголового комиссара…
…с обветренными губами…
…в куртке бычьей кожи…
…который без малого два года назад стоял в проеме распахнутой двери этого самого дома, в котором она застрелила революционного матроса.
…и который может ее опознать.
…не опознать не может – тот же дом, та же женщина.
…разве что нет волка. Которого бритоголовый комиссар теперь перепутал с собакой.
В мифах так действует на увидевших ее горгона Медуза. Парализующе. Ей надо бежать! Бежать как можно скорее. А она стоит. Не в силах пошевелиться. Протягивает бритоголовому комиссару переведенные ею на французский и отпечатанные описи реквизированных ценностей. Руки не дрожат. Странно, отчего не дрожат руки? Мыслей нет. Мелькнули всполохом: «у няньки жар, сухарей не хватит и на два дня, что будет с девочками» – и исчезли… Даже не страх, а полная пустота. Из которой не выбраться.
– У нас никогда не было собаки… Волк был…
Мир, в котором некуда бежать
Анна. Крым. Февраль – март 1921 года
Бритоголовый комиссар с обветренными до кровавых трещин губами уже не смотрит на нее. Отворачивается и продолжает разговор с Бонч-Осмоловским, Палладиным: что вывозим, что не вывозим, где реквизированное храним.
Не узнал?.. Узнал! Антипку вспомнил, с собакой только перепутал. Почему же не арестовывает?
Но и Николай Константиниди не за чашкой чаю Савву застрелил. Сидел с ними здесь, в этой же самой комнате. Чай с кизиловым вареньем пил. А потом…
Сколько времени Анна так стоит, не шевелясь, она не знает. Пока Бонч-Осмоловский не отрывается от описи награбленного, реквизированного то есть.
– Что стоим, голубушка? Не работаем почему? Живо работать!
Анна, осторожно пятясь, отступает из комнаты. Закрывает за собой тяжелые двери. Хватает с вешалки пальто. Выходит из большого дома, ясно осознавая, что выходит из него в последний раз.
К тайнику под обрывом за спрятанными там оставшимися ценностями уже не успеть. Последний из камней материнского колье всё еще в Иринушкином игрушечном медвежонке. Сейчас бы девочек успеть забрать, камень из медвежонка за пазуху сунуть. И понять, куда им бежать. И на чём.
Бритоголовый комиссар Елизаров с потрескавшимися обветренными губами сейчас закончит разговор с Палладиным и Бончем, позвонит по телефону, который, как на беду, на прошлой неделе отремонтировали, вызовет кого-то из ЧК. Или армейских. Или кто знает, как у них в Советах там всё устроено, кто арестовывает, кто расстреливает? Или бритоголовый комиссар сам увезет ее на авто. На всё том же материнском авто, которое власть за властью на свои нужды реквизирует – и германцы, и деникинцы, и врангелевцы, и нынешние красные комиссары снова на нем разъезжают. И на котором ее повезут на расстрел.
Если она не успеет сбежать.
Девочки рисуют принесенным ею вчера карандашом на обратной стороне испорченного листа с описью. Разломили карандаш пополам и рисуют. Как же она не подготовилась к тому, что это может в любой момент случиться? Почему не продумала, на чем бежать и куда? Куда бежать в мире, в котором уже некуда бежать?
Анна отправляет Олюшку в поселок с запиской к их бывшему конюху Сулиму, у которого есть казенная лошадь и повозка, на которых он реквизированные ценности возит. Только бы Сулим на месте был!
Теперь нянька. Как ее больную везти? Седые волосы взмокли. Вся горит. Кажется, что не дышит. Анна наклоняется, чтобы послушать дыхание. И чувствует, как пахнут руки няньки. Ее детством пахнут.
Олюшка вернулась, осторожно стучит в дверь, знает, что в комнату няньки заходить им с Ирой нельзя. Анна выходит. Жена Сулима сказала, что тот еще не вернулся из Севастополя. Когда вернется, она записку ему передаст.
Когда вернется… Когда же это будет? Пешком им с девочками никуда не дойти. А материнское авто – это видно из их небольшого окна – всё еще стоит у парадного подъезда большого дома. Бритоголовый комиссар не уехал. Он там! Ходит по ее комнатам. Сидит в ее кресле. Смотрит на ее снятого со стены Вермеера. На портрет материнской бабки Истоминой. И на ее портрет смотрит. В любой момент может прийти за ней.
Анна положила в холщовый мешок всё, что осталось теплого – носки, пуховую шаль, сменное белье. Сухари на два дня. Три морковки. Подорвала пришитую голову медвежонка, достала завернутый еще в батистовый платок последний камень из колье, сунула в лиф. Иринушка в слезы.
– Мишка! Голеву Мишке пишей.
Анна приседает на корточки, чтобы быть на одном уровне с Ирой.
– Тихо! Тихо. Голову пришьем. Но если ты будешь кричать сейчас, ты погубишь мамочку. Тихо.
Замолчала. Хлопает глазами. Жалеет мишку, прикладывает его голову на место.
Даже если Сулим скоро приедет и ее записку прочтет и не сдаст их, а придет на помощь, куда везти двух девочек и больную няньку? Она мечется, как в клетке. К Ире, к Оле, к мешку, к окну. Снова в комнату няньки.
– Аннушка! – слабым голосом зовет Никитична.
Анна пробует ее лоб. Жар не спал. Но Никитична открыла глаза, узнает ее.
– Нянька! Бежать нужно! Давай одеваться скорее.
Про бритоголового ей рассказывает. Про застреленного матроса нянька знает, помогала тогда кровь оттирать. Понимает, что, если появился тот комиссар, значит, Анну арестуют.
– Некуда мне бежать, девочка! – еле слышно шепчет нянька. – Не доеду. Не ровен час, на вас перекинется зараза. – Нянька горячая, как прежде печки горячие были. Мокрая вся.
– Переодеть тебя надо. Потеешь, значит, пойдешь на поправку. Когда больной потеет, всё плохое уже позади. – Говорит Анна и сама не верит тому, что говорит. В голове стучит: «Бежать! бежать!» Стаскивает с няньки мокрую рубаху, приподнимая некогд грузное, теперь исхудавшее, морщинистое тело. – Давай, осторожно, одну руку… так… теперь другую…
Крестик золотой на дешевом шнурочке в ложбинке между обвисших грудей. К этим грудям, вдруг ясно-ясно, как всполох, вспоминает она, в