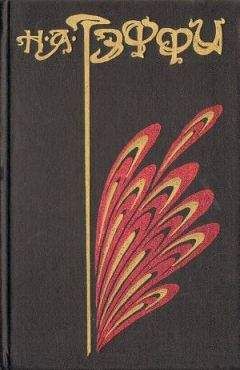Фельдшерица скоро ушла – ей действительно нужно было в больницу. За ней поднялась аптекарская чета, а с ними и Собакины – им было по дороге. Словом, к половине двенадцатого из гостей остались только мы с Беловым.
– Может быть, и вам хочется уйти? – лукаво спросила хозяйка. – Вы не стесняйтесь, я ведь не боюсь и одна остаться.
Но мы высказали твердое намерение просидеть до утра.
– Ну, знаете, – засмеялась хозяйка, – вы сидите, если хотите, а мне, откровенно говоря, хочется спать. Да и вам скоро надоест сидеть. Поэтому предлагаю одному из вас лечь в кабинете брата, а другому – здесь, на диване. Сейчас принесу вам пледы и шубы. Укройтесь как следует и спите.
Мы так и сделали. Револьвер свой я вынул и положил на столик около дивана.
Сначала прислушивался. Потом заснул.
Вдруг чувствую – дергает меня кто-то за плечо. Вскакиваю – Белов. Бледный, глаза выпучены.
– Слушайте, – говорит. – Слышите?
Минута молчания, и вдруг дикий вой, протяжный, хриплый, пронесся в воздухе и замер.
Мы бросились к дверям.
В конце коридора, у двери в кухню, стояла Евгения Николаевна.
– Вы слышали? – спросила она. – Я не могла оставаться в своей комнате. Там еще страшнее. Пойдите туда сами, послушайте.
Мы кинулись в ее комнату. И едва вошли – тот же дикий вопль пронесся над нашими головами. Белов схватил меня за руку. Он весь дрожал.
– Я сбегаю… за полицией… приведу сторожей… – На него смотреть было жалко.
Вой стих. Евгения Николаевна подошла к нам.
– Какой ужас, – сказала она.
Но самой этот ужас как будто нравился. Глазки у нее блестели, лицо было оживленное и ничуть не испуганное.
– Надо сейчас же осмотреть весь дом, – решил я. – Где ключи от столовой?
– Брат увез.
Мы поколотили по двери, конечно, без всяких результатов. Замок был прочный. Хозяйка притащила даже из кухни топор.
Пока она ходила за топором, вой раздался снова. Когда пришла – смолк. Я это заметил.
Между тем Белов неожиданно исчез. Я слышал, как хлопнула входная дверь. Ну, думаю, и бог с ним.
– Я кое-что придумал, – сказал я Евгении Николаевне. – Что? А вот сейчас увидите. Принесите, пожалуйста, для начала кухонное полотенце.
Она удивленно подняла брови, однако тотчас же пошла в кухню. Я тихонько прокрался за ней.
И только она завернула за угол коридора, как снова по всему дому раздирающий душу вопль.
Я этого и ждал.
У самой двери в кухню стояла Евгения Николаевна и тянула шнурок огромного вентилятора, построенного покойным голландцем по африканской системе.
– Подождите, – сказал я, – вы слабо тянете. А ну-ка, я сам.
Она даже подпрыгнула от неожиданности. Потом схватила меня за руки, закружила, завизжала и хохотала, хохотала до слез.
Я выдержал, когда она поуспокоится, увел ее в гостиную и очень серьезно объяснил ей всю опасную глупость ее поведения. Рассказал о брожении среди рабочих, о злобе башкир, о том вреде, который она всей этой историей принесла брату, и как трудно будет снова все наладить. Рассказал и о «говяжьем бунте» и грозящих мне неприятностях с татарами.
Она присмирела.
– Как же теперь быть? Мне и в голову не приходило, что здесь все такие идиоты. Но – что это? Слышите?
Какой-то ровный стук, словно как бы от пишущей машинки. Откуда? Со стороны запертой столовой.
– А это что за фокусы? – холодно спросил я.
Но она была совсем растерянная и крепко вцепилась мне в руку.
Я отстранил ее.
– Ну, это мы сейчас узнаем.
Я быстро схватил со стола револьвер и выбежал в коридор, и остолбенел.
Дверь в столовую была распахнута настежь.
Я вбежал в темную комнату.
Высоко у стены под самым потолком пылали какие-то огненные зубы и что-то стучало, трещало…
– Я стрелять буду!
Огненные зубы как-то странно запрыгали. Я поднял револьвер и выстрелил. Огненная боль обожгла мне щеку. Грохот, звон, треск… Истерический вопль Евгении Николаевны покрыл все. Я видел, как она распахнула дверь и кинулась на улицу. Я побежал за ней, схватив на ходу какую-то шубу. Догнал живо – она почти тут же упала. Снегу только что намело что ли не по колено.
– Это опять какие-то ваши фокусы, – кричу ей. Однако я сам понимаю, что ей не до фокусов. Дрожит вся и прямо в истерике.
– Самовар, – шепчет, – самовар… – Зубами стучит.
Завернул ее в шубу.
Куда деваться? Не идти же назад в этот чертов дом. Вести ее к себе немыслимо. Далеко, да и нельзя благородную девицу вдруг ночью на холостую квартиру.
###
Первые поднимали тревогу две молодые легавые собаки, всегда игравшие у ворот.
Они начали лаять особым предостерегающим сигнальным лаем. Нечто вроде собачьего «слуша-ай, приме-ча-ай!..».
И, услышав этот сигнал, мгновенно вскакивала вся дремавшая у подъезда стая наших деревенских собак – больших, маленьких, породистых, полупородистых и окончательной приблудной дряни.
Из будки вылезал огромный мохнатый, как дед в вывороченном тулупе, цепной пес Дозор и от бешенства начинал хрипеть и плясать на задних лапах.
Весь этот собачий концерт отмечал событие довольно простое и не очень редкое: столяр Мошка вошел в ворота.
Почему вид его так волновал собак – до сих пор не понимаю.
Был Мошка такой: старый, очень худой, длинный, согнутый, носил ермолку, пейсы, длинный лапсердак и калоши. Словом, внешность его для того края была самая заурядная.
Удивителен он был совсем не внешностью, а кое-чем таким, чего собаки знать не могли.
Прежде всего – репутацией непоколебимо честного человека. Все заказы выполнял хорошо, к сроку не опаздывал, цены брал божеские и без задатка.
Второе – этого тоже собаки не знали – он был поразительно молчалив. Я даже не знаю, говорил ли он вообще, может быть, только моргал глазами и мотал пейсами.
А самым главным была легенда о нем, бросавшая свет на его странности. Рассказывали, будто лет тридцать тому назад, в Судный День, когда он вместе со своими единоверцами молился в синагоге и каялся в грехах, произошло нечто, что по еврейским поверьям считается вполне возможным: утащил бедного Мошку черт.
Нашлись, конечно, люди, которые собственными глазами видели, как летел Мошка по воздуху. И тащил его кто-то поганый, вроде барана. Хотели даже помочь ему, перекрестить черта, да подумали, что, может, Мошке еще за это неприятность будет, что его крестили.
Какая-то старуха видела не барана, «а быдто шар, а у шара из носу пламень».
Какой такой у шара бывает нос, это старуха не объясняла, а просто отплевывалась.
Как бы там ни было, а Мошка пропадал без малого тридцать лет. Откуда явился – неизвестно. Поселился за кладбищем в заброшенной баньке и стал ходить по помещикам столярничать. Работал хорошо. Где он там у черта научился ремеслу, никому не известно.
Нашлись, как всегда, умные люди, которые с усмешечкой говорили, что Мошка просто-напросто в свое время удрал от воинской повинности и, кажется, прожил эти годы в Америке.
Но это разумное предположение было всем неприятно и даже противно.
– Выдумают же такое неправдоподобие! Когда люди собственными глазами видели, как его черт тащил. Да и почему бы он молчал, если был в Америке? Из Америки все болтунами приезжают. Когда же и поврать, если не из Америки! А уж раз человек так молчит, значит, не иначе, как на него такой зарок наложен. Что-то, может быть, искупить должен. И почему такой честный? Тоже, скажете, от Америки? Ха-ха! А что задатка не берет, так это потому, что боится, не уволок бы его черт снова, и тогда пропадут чужие деньги.
Хорошо помню эти «Мошкины дни».
Во флигеле, в маленькой пустой комнате, выбеленной известкой, – планки, доски, опилки.
Длинная черная фигура согнулась и водит по широкой доске какой-то маленькой коробочкой, и из-под этой коробочки тонкими шелковистыми локонами завиваются душистые стружки.
Мы с сестрой стоим в дверях и, затаив дыхание, смотрим на Мошку. Мне кажется, что мы простаивали там целые часы.
Мошка молчал и не обращал на нас никакого внимания. Стругал, пилил, долбил. Движения у него были медленные, точно автоматические, глаза полузакрыты. И от этого на нас нисходил какой-то гипнотический полусон. Дышать начинали громко и ровно, как спящие, глаза тоже полузакрывались и подкатывались. Нечто странное, приятное и неодолимое, овладевало, зачаровывало, заколдовывало, отнимало силу и волю.
С трудом очнувшись, уходили мы на зов старших, и за столом мать замечала, что мы побледнели.
И чуть оставляли нас на свободе, сейчас же бежали мы смотреть на Мошку. Так притягивало это неизъяснимое, исходящее от тихого темного человека.
Впоследствие, много лет спустя, рассказывал мне один симбирский помещик, как лечил калмык его шестилетнего сына от детской падучей. Калмык потребовал фунт чистого серебра, взял молоточек и стал выковывать конус, внутри пустой. Девять дней ковал, постукивал молоточком, медленно поворачивал блестящий кусок металла и тихо-тихо напевал, а больной мальчик должен был рядом стоять и смотреть. Мальчик стал спокойным и сонным. Через девять дней конус был готов, и мальчик выздоровел.