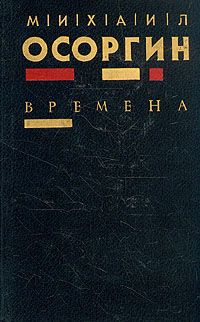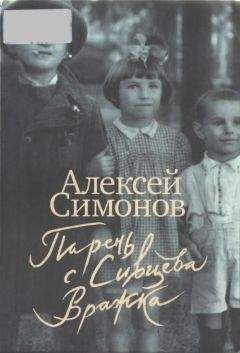- На что тебе его комнаты?
- А что же нам, в одной жить да в кухне? Набросано добра, а девать его некуда.
- Нельзя.
- А почему нельзя-то?
- Раз говорю, нельзя. Может человек вернуться, а комнаты его нет. Там его вещи.
- Подумаешь, буржуя жалко. Больно уж ты о нем заботливый.
- Отстань, Анна, не морочь голову. Ты его и в глаза не видала, а я его знаю.
- Приятель какой.
-- А может, и впрямь приятель! Может, он мне жизнь покалечил, а я его уважаю, вроде как за лучшего приятеля.
Помолчав, прибавил:
- Пивали вместе, ну и что же? Голова умнеющая, до всего дошел. А что забрали его - ничего не доказывает. И не тебе, дуре-бабе, о нем рассуждать. Ученый человек - не нам, мужикам, ровня.
- Ученый... Чему тебя научил ученый твой?
- Чему научил, про то мне знать. Говорю тебе, может, он мне есть самый злой враг, а я его уважаю и пальцем тронуть не позволю. Вот. У него в комнатах одних ученых книг столько, сколько у тебя тряпок не найдется. И все книги он прочел, про все знает. И между прочим, со мной, с малограмотным, простым человеком, спирт пил за равного. Это понимать надо, Анна. Да только не твоими бабьими мозгами.
Только успел скипеть самовар, как постучал преддомком Денисов и, не войдя, сквозь дверь крикнул:
- Эй, товарищ Завалишин, там за тобой приехали.
- Кто за мной?
- Машина приехала, тебя спрашивают, и чтобы сейчас же выходил.
Завалишин забеспокоился, надел пиджак, снял с гвоздя кобуру с кольтом.
- Чего тебя в неурочный день?
- Бес их знает. У нас всякий день может урочным быть.
- Чаю-то выпил бы.
- Коли требуют. Плесни мне спирту полстакана, там на полке стоит.
И вдруг, разозлившись на беспокойство, крикнул с порога сожительнице:
-- А дверь эту и печать ты не трожь! Слышишь? Не в свое дело носа не суй. Комнаты ей, видишь, мало стало, барыня какая. И, уходя, хлопнул дверью.
ПУСТОТА
После нового допроса, уже четвертого по счету, Астафьева перевели в отдельную камеру.
Допрос был краток. Товарищ Брикман, которого всегда перед весной сильно лихорадило, сидел укутанный в рыжеватый свитер под обычным своим френчем с непомерно широким для его шеи воротником.
Входя, Астафьев участливо подумал: "А и подвело же его, беднягу! И все скрипит, и на что-то надеется".
- Гражданин Астафьев, о вас, кажется, хлопочут родственники. Я решил вас вызвать опять, может быть, теперь мы сговоримся.
- В чем сговоримся?
- Вы отрицаете свое участие в заговоре и в том, что у вас скрывался величайший враг советской власти. Ну, а скажите, как сами вы к этой власти относитесь? Вы ее признаете?
- А разве она нуждается в моем признании? Я ведь не иностранная держава.
- Вы напрасно отшучиваетесь. Советую вам ответить прямо.
- В нежных чувствах к власти, которая в вашем лице держит меня зря в тюрьме больше полугода, вы меня, товарищ Брикман, вряд ли заподозрите.
-- Значит, вы относитесь к ней враждебно?
Астафьев заложил ногу за ногу и откинулся на стуле:
- Враждебно - нет; на это у меня не хватает темперамента. Скорее презрительно.
- Презрительно к власти рабочих и крестьян?
-- Ну, Брикман, бросьте! Какие уж там рабочие и крестьяне, как вам не стыдно глупости говорить.
Следователь дернулся.
- Гражданин Астафьев, я скажу вам прямо: улик против вас мало, только анонимное сообщение о том, что у вас ночевал похожий человек. Но вы, гражданин Астафьев, человек умный, дерзкий и опасный для нас. Вы опаснее маленьких открытых врагов. За вас хлопочут, но я вас не выпущу.
Астафьев почувствовал, как в нем закипает злоба к этому человечку, в руках которого его судьба. Схватить его за тонкое горло, стиснуть - и душа вон.
Он сказал, по привычке скандируя слова:
- Личное чувство в вас говорит, Брикман. Просто - ненависть к здоровому и независимому человеку. Вы - приказчик власти, а я свободный человек, вы дышите на ладан, а я, слава Богу, здоров. Ясно, что вы должны меня уничтожить, хоть и знаете, что обвинить меня не в чем.
Следователь опять дернулся на стуле, покраснел и визгливым шепотом, срываясь в голосе, сказал:
- Да, я дышу на ладан, как вы выразились. У меня грудь разбита в тюрьме прикладами, у меня чахотка. Все это вы гадко сказали, гражданин Астафьев, и, по-моему, непорядочно. Но вас и вам подобных я ненавижу не потому, а потому что... а потому что...
Товарищ Брикман закашлялся, вынул из кармана скляночку, плюнул, спрятал скляночку обратно в карман, вытерся платком и исподлобья, больными глазками, взглянул на Астафьева.
- Вот то-то и есть,- сказал Астафьев,- какой уж вы воин! На юг бы вам ехать.
Тяжело дыша, следователь прохрипел:
- В ваших медицинских советах не нуждаюсь.
Пока товарищ Брикман вытирал выступивший пот, Астафьев с тоской оглядывал комнату. Стекла окон были давно не протерты. В углу лежала пыльная груда газет и бумаг, на стене - тусклое зеркало.
- Обстановочка у вас! Хоть бы окна протерли, все свету было бы больше.
Отдышавшись, следователь сказал:
-- Можете думать обо мне как хотите. Одно вам скажу, гражданин Астафьев, неизвестно еще, кто из нас ближе...
Он замялся.
- Вы хотите сказать: к тому свету?
Вместо ответа следователь резко, деловым тоном, подчеркнуто официально сказал:
- Впрочем, я могу вас выпустить, если вы, гражданин Астафьев, согласитесь с нами работать. Астафьев улыбнулся:
- Пробуете оскорбить? Экий вы неугомонный. Я на вас не оскорбляюсь, Брикман. Куда вам!
- Прекрасно. Можете идти.
Он позвонил. Астафьев встал, одернул мятый костюм, поправил отросшие длинные волосы и, смотря сверху вниз, сказал с доброй улыбкой:
- Правда, Брикман, поезжайте на юг, бросьте эту обстановку и всю эту гадость. Я это не со зла говорю. У вас ужасный вид.
Вошел конвоир.
В одиночной камере Астафьев сидел на койке в обычной своей позе: прислонившись к стене и обняв руками согнутые ноги.
Книг не было - читать заключенным не разрешалось. Ни бумаги, ни карандаша, ни даже самодельных шахмат. В общей камере Астафьев ежедневно занимался гимнастикой и приучил к этому других. Здесь не хотелось. Голода не чувствовал, хотя питанье было отвратительным: суп из воблы, разваренное пшено без масла и четвертка хлеба; впрочем, на воле такому столу многие бы позавидовали. Чай морковный, и назывался он кофеем. Давали махорку - это хорошо; за это можно было многое простить Всероссийской Чеке.
В первые месяцы сидения Астафьев часто думал о том, что его могут "вывести в расход". Но в конце концов мысль эта притупилась и утратила остроту. Хуже всего была общая усталость, и тела и духа. Были в первое время живы образы внетюремной жизни: комнаты с любимыми книгами, московские улицы, вечера на Сивцевом Вражке, странное объяснение с Танюшей, выступления на концертных эстрадах, в прошлом - университетская работа, в дальнем прошлом заграничные поездки. Но и эти образы ушли и стушевались. Не было прежней жажды свободы и даже прежней ненависти к тюремным стенам.
О сегодняшнем разговоре со следователем Астафьев думал: "Замучил я его. Лучше было ударить, чем так. Нехорошо вышло".
Вспоминал эту отвратительную карманную скляночку и морщился от невольного отвращения здорового человека.
"И зачем такой живет!"
А зачем живет он, Астафьев? Какой смысл в его жизни? Не все ли, в сущности, равно, ликвидирует ли его на днях товарищ Брикман или выпустит жить дальше?
"Довольно ты мучался, довольно ворчал и довольно изображал из себя обезьяну. Что тебя волнует? Видеть все это три года или сто лет - совершенно все равно". И еще говорит Марк Аврелий:
"Если бы было тебе суждено прожить три тысячи лет и еще столько-то десятков тысяч,- все-таки помни, что человек теряет только ту жизнь, какую он живет, и живет только ту жизнь, которую теряет. И никак он не может потерять ни прошлого, ни будущего: как потерять то, чего не имел?"
А царь Соломон:
"Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться; и нет ничего нового под солнцем".
"Как странно,- думал Астафьев.- Сколько есть веселых и бодрых книг, сколько блестящих и остроумных философских истин,- но нет ничего утешительнее Экклезиаста".
В коридоре гулко раздался стук; вслед за тем шаги и голос сторожа:
- А ну, стучи! А ну, стучи эщэ!
Латыш не мог сразу разобрать, в дверь какой камеры стучат.
- А ну, стучи!
Знакомый Астафьеву окрик. Кто-нибудь из заключенных добивался особой льготы: лишний раз вне отведенного времени выйти в уборную. Но, кажется, не пустили. Вот, вероятно, страдает бедняга арестант.
"Если страданье невыносимо - оно убивает. Если оно длится - значит, переносимо. Собери свои душевные силы - и будь спокоен".
Так должен утешать себя философ. Да, обывателю есть за что ненавидеть философа.
"В сущности,- думал Астафьев,- мне глубоко чужды всякие контрреволюционные мечтания. Я презирал бы народ, если бы он не сделал того, что сделал,- остановился бы на полпути и позволил ученым болтунам остричь Россию под английскую гребенку: парламент, вежливая полиция, причесанная ложь. И все-таки Брикман прав: я враг его и их. Ведь все равно, кто будет душить свободную мысль: невежественная или просвещенная рука, и будет, конечно, душить "во имя свободы" и от имени народа. А впрочем,- все это скучно".