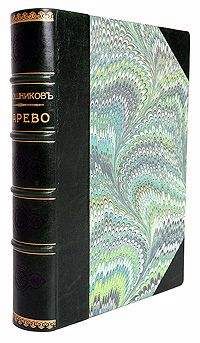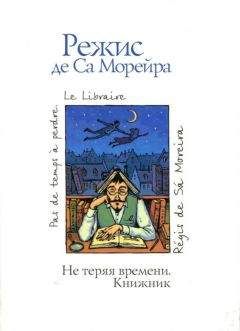Русановъ глядѣлъ въ сторону; въ темной перспективѣ ночи, по всей степи, покуда глазъ хватитъ, горѣли огоньки, малъ-мала-меньше, мигая чуть видными точками…. Это крестьяне жгли въ копнахъ обмолоченную гречаную солому.
— Да ты не слушаешь, Володя? сказалъ майоръ, обернувшись назадъ отъ вожжей.
— Какже, слышу! встрепенулся тотъ: — на что жь это ее истребляютъ?
— Солому-то? А куда жь ее беречь? Ты смотришь, что она рослая, да красивая, а ты спроси, на что она годится? Скотъ ее не ѣстъ, для топки мала.
Русановъ опустилъ голову; странная параллель развертывалась передъ нимъ: "еслибы тою сильною натурой да умѣли воспользоваться," думалось ему.
— Ну, опять пошелъ задумываться! О чемъ еще? заговорилъ майоръ.
— Да все о томъ же.
— Это чтобы хуторъ-то продать?
— Что жь мнѣ дѣлать, дяденька, не могу съ собой совладать! просто постыли мнѣ эти мѣста. Легче, кажется, не видать ихъ…. уѣдемте въ Москву.
— Да по мнѣ что жь? Я старикъ; мнѣ вѣкъ-то доживать, гдѣ хочешь, все едино.
— Ну такъ по рукамъ! Мѣсяца на два я куда-нибудь уѣду, поразсѣюсь…. а тамъ и заживемъ по старому.
— Ну такъ дакъ такъ! порѣшилъ майоръ, и всю дорогу перебиралъ сосѣдей, кому бы повыгоднѣй спустить родимое гнѣздышко.
Русановъ тоже не заговаривалъ болѣе; онъ задумывалъ широкій планъ, осматривалъ его со всѣхъ сторонъ, колебался, соображалъ, и наконецъ, входя въ комнаты, спросилъ дядю, не знаетъ ли онъ, когда ѣдетъ Чижиковъ?
— А вотъ съѣзди завтра, самъ узнаешь…. Ты что-то совсѣмъ забылъ его. Онъ жалуется, что съ тѣхъ поръ какъ онъ сосѣдъ нашъ, и въ глаза тебя не видалъ.
Поутру Владиміръ Ивановичъ велѣлъ осѣдлать свою лошадь и отправился на Ишимовскій хуторъ. Еще дорогой поразила его перемѣна прежней, барской обстановки. Не вдалекѣ отъ усадьбы, на мѣстѣ конюшни, заставленной бывало рысаками, бѣлѣла новая крупорушка; въ отворенную дверь виднѣлась пара сытыхъ воловъ, ходившихъ по кругу машины; садъ обнесся прочною, живою изгородью; у воротъ лаяла цѣпная собака; тамъ и сямъ по двору выросли клумбы цвѣтовъ; въ окнахъ сквозили драпри; на крыльцѣ лежала чистая цыновка. Отовсюду вѣяло порядкомъ, домовитостью, женщиной.
— Давно васъ ждемъ, дорогой гость! встрѣтила Русанова Катерина Васильевна:- что-й-то какъ заспѣсивились!
— Да какъ же вы пополнѣли, похорошѣли! говорилъ тотъ входя за ней въ уютную гостиную:- по лицу видно, что вы и здоровы, и покойны, и счастливы, на сколько это возможно.
— Даже больше, улыбалась она, полвигая ему мягкое кресло, и сама усѣлась визави, оправляя плотное шелковое платье.
Вошелъ Чижиковъ. Русанову показалось, что онъ не то выросъ, не то побрился; что-то и въ немъ произошло особенное. Онъ бросилъ соломенную шляпу на старое фортепіано и весело поздоровался съ Русановымъ.
— Остатки прежней роскоши, пояснилъ онъ, замѣтивъ брошенный гостемъ взглядъ на ветхій инструментъ, — должности своей болѣе не исправляетъ, но пользуется почетнымъ угломъ, какъ товарищъ въ годину испытаній, продекламировалъ онъ, переглянувшись съ женою.
— Я слышалъ, вы изъявили желаніе служить въ Царствѣ Польскомъ, заговорилъ Русановъ, — такъ я хочу предложить вамъ ѣхать вмѣстѣ до Варшавы.
— А вы тоже…. служить?
— Нѣтъ, я такъ…. — И Русановъ, немного смутившись, обратился къ Катенькѣ:- вамъ вѣдь скучно будетъ безъ него?
— Нѣтъ, отвѣтила та, — мнѣ такъ пріятно будетъ заняться улучшеніями къ его пріѣзду, а ужь ждать-то, ждать какъ буду.
— Вотъ и достойный представитель семейнаго счастія, вскрикнулъ Чижиковъ, указывая Русанову на вбѣжавшаго стремглавъ трехлѣтняго пышку. Весь раскраснѣвшись, растрепанный, онъ такъ и кинулся съ звонкимъ смѣхомъ на колѣни къ матери. За нимъ ковыляла старая Ѳедосьевна.
— Мама, няня не пускаетъ гуль-гуль! жаловался мальчуганъ.
— Что такое, Ѳедосьевна? улыбалась Катенька, причесывая крошку.
— На голубятню, барыня, какъ есть на самый верхъ залѣзъ было, шамкала старуха.
— Не надо, упадешь, бо-бо! ласково журила мать.
— Не надо, бо-бо! повторилъ тотъ и занялся деревяннымъ гусаромъ, а потомъ началъ всѣхъ увѣрять, что это дядя.
— Какой дядя? спросилъ Русановъ.
— О! отвѣтилъ тотъ, и уставился на него пальцемъ.
— Какъ его зовутъ?
— Митрій Митричемъ, батюшка, зашамкала няня, — вонъ по дѣду да по отцу; и у самого дѣтки будутъ, все первенькаго-то Митрій Митричемъ звать будутъ. Да, легко ли всѣхъ выходила! Катенька-то давно ли сама такая была, а вотъ привелъ Богъ и внучка носить.
— Ну, завралась старуха, сказалъ Чижиковъ, — а и впрямь она намъ почти что родная. Пойдемте-ка, Владиміръ Иванычъ, до обѣда я вамъ хозяйство наше покажу.
Онъ повелъ гостя на птичный дворъ; старые знакомцы-корольки терялись въ кучѣ кохинхинокъ, брамапутръ, индѣекъ; и вся орава съ клохтаньемъ и кудахтаньемъ обсыпала хозяина. Онъ сорилъ имъ хлѣбъ, подалъ ломоть тирольской коровѣ, флегматически смотрѣвшей черезъ загородку; та протянула морду, фыркнула, вернула раза два языкомъ и принялась жевать подачку. Потомъ Чижиковъ провелъ Владиміра Ивановича фруктовымъ садомъ, съ завѣшенными сѣтью деревьями, на крутой обрывъ; подъ нимъ тянулись золотистыя жнивья, пестрѣвшія скирдами. Чуть слышано звенѣли пѣсни крестьянъ, развозившихъ снопы.
— Все вѣдь самъ устроилъ, говорилъ Чижиковъ, потягиваясь на дерновой скамьѣ, - какъ пріѣхали-то мы сюда, ни кола, ни двора не было.
— Честь и слава! проговорилъ Русановъ, довольно равнодушно.
— Да, великое дѣло — собственность, обезпеченность, продолжалъ Чижиковъ, съ замѣтнымъ самодовольствомъ:- говорятъ человѣкъ тупѣетъ отъ нея, жирѣетъ…. Вздоръ! Лучше человѣкъ становится, дѣятельнѣй! Есть что защищать, есть о чемъ хлопотать; средства есть, наконецъ, посвятить себя безкорыстной дѣятельности, сознать долгъ гражданина.
"Такими людьми свѣтъ держится", подумалъ Русановъ, и прибавилъ вслухъ:
— Смотрите-ка, кто это идетъ къ намъ. Кажется, Юлія Николаевна.
— Да, вѣдь они съ Катенькой пріятельницы; сосѣди-то всѣ оставили ее, не принимаютъ… ну, да вы человѣкъ близкій, сами знаете. А Катенька съ ней по-прежнему…. Она теперь верхомъ ѣздитъ; нѣтъ-нѣтъ, да и завернетъ къ вамъ.
— Здравствуйте, патріоты, какъ статскій, такъ и воинъ, здоровалась Юленька такъ весело, что Русановъ тотчасъ понялъ, какъ ей легко бываетъ въ этомъ домѣ; понялъ и то, почему она стала уѣзжать изъ своего на прогулки.
— Скоро вы ѣдете, сосѣдъ? освѣдомлялась она,
— Хочется поскорѣй, говорилъ Чижиковъ. Повѣрите, Владиміръ Ивановичъ, я человѣкъ смирный, а до какой степени они меня озлобили своими продѣлками! Даже жалости я къ нимъ никакой не чувствую. Еще денька два и ѣдемте.
— И вы тоже? удивилась Юленька.
Русановъ кивнулъ головой.
Весь обѣдъ Юленькѣ было какъ-то неловко; она то заставляла себя шутить, то, не доканчивая начатой рѣчи, задумывалась, такъ что всѣ наконецъ замѣтили. Выйдя изъ-за стола, она тотчасъ опустила пажи амазонки и стала прощаться. Русановъ вызвался проводить ее, говоря, что ему нужно переговоритъ съ Авениромъ. Поднимая ее на сѣдло, онъ почувствовалъ легкую дрожь въ ея рукѣ, и положилъ себѣ не тревожить ея неумѣстными разспросами. Но не успѣли они отъѣхать полверсты, она пустила лошадь шагомъ и обернулась къ нему.
— Что, небось, завидно? сказала она, указывая хлыстикомъ на скрывавшуюся усадьбу.
— А то незавидно, отвѣтилъ Русановъ.
— Кто жь вамъ мѣшаетъ? проговорила она, замѣтно поддѣльнымъ голосомъ:- взяли бы себѣ жену, стали бы такимъ же семьяниномъ.
Русановъ молчалъ.
— Я понимаю васъ, продолжала она:- еще бы мнѣ васъ не понять! Мы оба надломаны. Говорятъ: "битая посуда два вѣка живетъ"; да что толку? Но вотъ что, Владиміръ Иванычъ, какой толкъ и мыкаться-то?
— Никакого, отвѣтилъ онъ.
— Зачѣмъ же вы ѣдете, живо перебила она.
— А зачѣмъ мнѣ оставаться? Полгода еще, по крайней мѣрѣ, лѣчиться надо; да наконецъ не вѣкъ же и воевать.
Она помолчала, поиграла поводьями, потомъ тихо проговорила, глядя всторону:
— Счастливый путь…. Охъ, да еслибъ вы знали, какъ охотно сама я уѣхала бъ куда-нибудь… только подальше… хоть въ Сибирь, хоть въ Камчатку…
Иной разъ едва слышная рѣчь разитъ больнѣй всякихъ возгласовъ любаго трагика; такимъ дѣйствительнымъ, жизненнымъ отчаяніемъ отдались въ Русановѣ эти слова…
— Вы думаете легко мнѣ здѣсь? продолжала она въ порывѣ откровенности:- мать родная косится, бѣгаетъ меня словно зачумленной; братъ… Ну, конечно, онъ такъ благороденъ, что не выказываетъ, какъ ему трудно снести пятно семейной чести развѣ я не чувствую этой обидной снисходительности? А сосѣди? Тѣ ужь прямо, чуть не въ глаза распутной зовутъ…
Тяжело было Русанову слушать ее, онъ почти обрадовался, когда она завидѣвъ невдалекѣ околицу хутора, подняла лошадь въ галопъ и не не сдерживала ее вплоть до самаго крыльца.