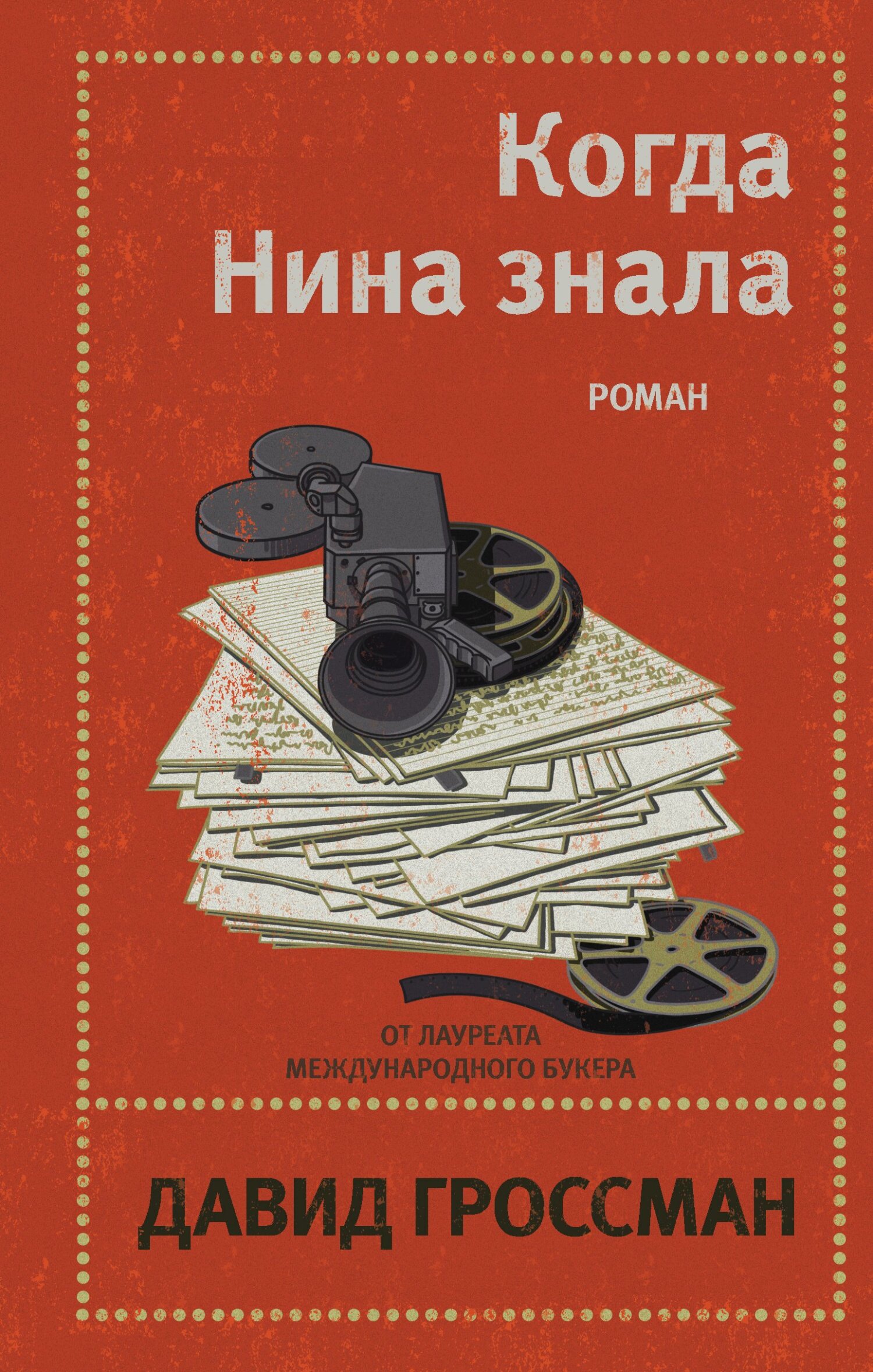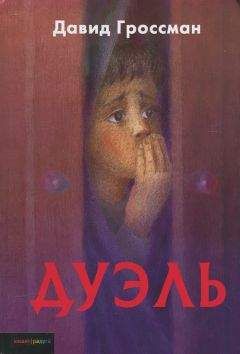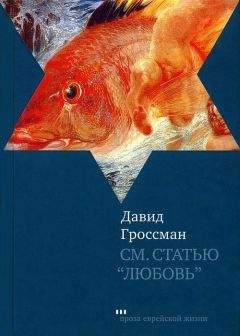или строчку из песни, которая как-то с ним вяжется. Не все режиссеры от этого без ума, но эй, сейчас это
мой фильм.
И бабушка – она моя.
Вера тут же поддается на уловку: морщит лицо, о чем-то скороговоркой сама с собой говорит, начинает улыбаться. Прием сработал. «Мы, бывало, без конца танцевали, мы с Милошем». Я прошу раскрыть побольше. «Когда Милош уже выздоровел от чахотки и всех своих холер, и мы из его деревни вернулись в Белград, и у нас была красивая квартирка, а я еще не была беременна, мы вдвоем были такие счастливые… Бывало, закроем жалюзи, включим патефон и часами танцуем! Мы соблюдали те же движения и тот же ритм, что туммим [38], и умели кружиться в тот же момент…»
Рафи поднимает большой палец. С его точки зрения можно начинать. Вера полностью настроилась.
«И Милош так красиво потел, Гили, у него была гладкая кожа, может, я тебе когда-то рассказывала, без единого волоска, кожа, как замшевая. И после того, как побывал на солнце, он был как нигеро…»
Рафи легко передвигается за ее спину и оттуда делает мне знак – часы и ребром ладони по горлу. Но попробуй останови Веру, если в воздухе Милош: «И мы проводили время с друзьями, и они кричали, что хотят видеть, как я танцую, а ты знаешь, как я танцевала? На столе чардаш! На столе стояли стаканы, и я танцевала между ними, и ни один стаканчик не упадет на землю! И я так вот приподнимала юбку…»
Ну вот, маленький трюк вышел за границы дозволенного.
«И до сих пор, знаешь, я больше всего люблю по радио передачу «Чарующие минуты»… там бывают песни, под которые мы с Милошем танцевали, танго и медленный фокстрот, и каждый раз, когда такое передают, я не могу удержаться и танцую, и сразу в слезы».
«Круто, бабушка, это здорово. Именно то, что мне хотелось услышать».
«Правда? – Она улыбается. – Значит, я тебе помогла».
«Еще как! А теперь поговорим о том деле, ты знаешь о чем».
«А, да». – Она утонула в кресле.
«Бабушка, я не могу взойти на остров раньше, чем мы поговорим». Рафаэль чуть меняет положение кресел. «Но что будет, если она вдруг придет? – шепотом спрашивает Вера. – Не лучше ли это сделать в номере у Рафи?» – «Дай-то бы бог, чтобы она пришла», – говорю я, а она: «Нет, нет и нет! Это ее убьет!»
«Она обязана знать!» – говорю я, хотя почему-то и сама не так уж в этом уверена. «Обязана? – Вера бьет по моим коленям рукавом своего свитера. – Что значит «обязана»? Как она может быть обязана, если она не знает, что обязана?» – «Она знает, – я говорю то, что шептала ей ночью. – Она знает, даже и не зная». – «Такого не бывает. Или знает, или нет». – «Бабушка, послушай: все, что Нина делает, все, что она говорит, все, что ее душа, все, что ее боль, все, что не дает ей жить, все это оттуда». Вера щелкает языком, отталкивает мои слова. И мне хочется ее схватить и тряхнуть, и может, что-то наконец проникнет в этот кусок кристалла. «Такая у нее жизнь, бабушка! Она обязана знать, почему так выстроилась ее жизнь!» Вера издает длинный насмешливый выдох, а я знаю, что права, но собственный голос кажется мне голосом руководительницы детского кружка:
«А знаешь, что мне больше всего мешает, бабушка?»
«Ну, скажи».
«Что я не до конца уверена, кого ты защищаешь, когда держишь это в секрете? Ее или себя?»
«Себя? Гили!» – потрясенно брызжет слюной моя бабушка, и на протяжении длинного и клокочущего возмущением взгляда мы – враги сердцем и душой, и это невыносимо, невыносимо.
«Все эти разговоры про то, что человек должен знать всю правду, как вы это говорите, и справляться, это очень красиво, Гили, и очень пристойно, и морально, браво… – и она трижды хлопает в ладоши, – но я тебе говорю, что нельзя вдруг прийти к женщине почти шестидесяти трех лет от роду и сказать ей: послушай, милочка, то, что ты думала, было несколько не так, ты вообще всю свою жизнь проживаешь в определенном заблуждении». – «Во лжи», – уточняю я. «Нет и нет! Ложь – это когда кто-то хочет причинить тебе зло. А здесь это может быть, может быть, когда у кого-то не было выбора».
Рафи показывает мне знаками, чтобы мы говорили потише. Он прав. Если мы запутаемся в этом споре, она вообще наглухо закроется.
«И еще я говорю тебе, Гили, и крепко-накрепко запомни то, что я тебе сказала: если она узнает, она не захочет жить, она не захочет жить! Я свою дочь знаю!»
«Может, позволишь ей решить самостоятельно? Она не младенец!»
«Если она узнает, она вернется в состояние младенца».
«Значит, лучше держать ее во лжи до конца?»
Вера сама застопорилась. Часто мигает. В ее иссушенных временем глазах я читаю: это уже ненадолго.
Она скрещивает руки на груди. Губы сжаты. Рафи подает мне рукой знак, мол, валяй дальше.
«Хорошо, поняла. Ладно. Вера, расскажи нам, пожалуйста, что произошло».
«Не так. – Она хлопает ладонью по своему бедру. – Так со мной не разговаривай!»
«Как это так? Как я разговаривала?»
«Как будто ты со мной уже не знакома».
Обе мы задыхаемся и надуваемся. Трудно ей, трудно мне. Мне трудно, что ей трудно.
«Хватит, бабушка», – говорю я, и у меня малость сорвался голос.
«Гили…» – Она обласкивает меня своими глазами, теми, в которых я всегда лучше всех.
«Прости, бабушка, я ужасно нервничаю. Давай уже перейдем через это. Расскажи мне, что произошло».
«Хорошо, рассказываю. – Она выпрямляется, кладет руки на ручки кресла. – Рафи, твоя фотография работает?»
«В сентябре пятьдесят первого Милош во время каких-то скачек, в которых он участвовал, сломал кость в плече, и половина тела у него была в гипсе. Он был в отпуске по болезни, но каждый день ходил проведать своих солдат в кавалерийской части. И однажды утром, когда он был дома, вдруг зазвонил телефон. Срочный вызов к генералу. Он поехал и, что там было, мне не рассказал.
Но на другое утро Милош вдруг принес кольцо для Нины. И я сказала: «Ты что, с ума сошел?» Как мы закончим месяц? Пойми, Гили, это было только двенадцатое число месяца, и у нас в кармане уже совершенно пусто! Я в четыре утра шла в очередь за бутылкой молока для ребенка! За первыми кожаными туфлями для себя я простояла в очереди день,