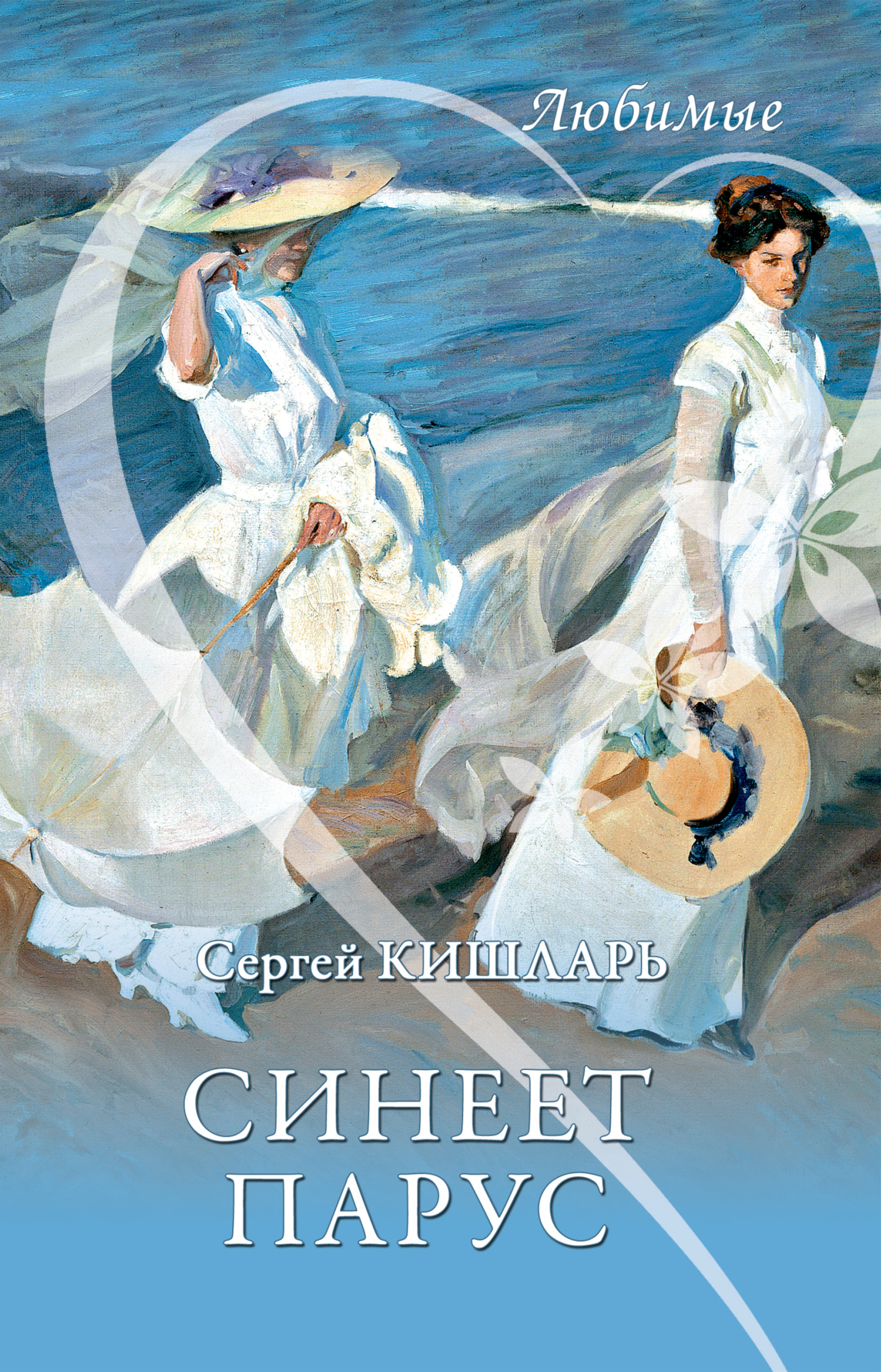тут чья-то нога, теряя домашний тапок, прямо из-под рук выбила примус. Роняя горящую спичку, Люба вскинула голову, – лысый подпрыгивал, поддевая ногой потерянный тапок.
– Просим вас, гражданочка, убираться подобру-поздорову.
Люба сидела, опустив голову и от злости до боли в висках тиская зубы. Когда чуть отлегло, она взяла примус, уходя, кинула от дверей:
– Не с той контрой мы воевали, настоящая контра – вот она где угнездилась.
– Но-но! – воинственно ринулся к ней лысый.
Люба недослушала, запустила кухонную дверь навстречу красной потной морде, зло заскрипела половицами в коридоре.
Доктор и Львовна суетились над Ариной Сергеевной, мальчишка испуганно смотрел со стороны, прижавшись спиной к комоду. Люба едва успела разжечь примус и приспособить на когтистую лапу голубого пламени алюминиевую кастрюлю с водой, как в дверь требовательно застучали. Львовна открыла, испуганно отступая под решительным натиском соседей, во главе которых вошёл мужчина с небольшими щёгольскими усиками.
– Курляндский, – строго представился он. – Управдом. Имею вам сообщить, что использование примуса в жилом помещении есть прямое нарушение правил пожарной безопасности и ведёт к выселению жильца с жилплощади, так что, граждане, будем составлять акт.
Любка даже крякнула от злости, но примус погасила.
– Не надо никакого акта, это я виновата, товарищ… Я с вашими правилами не больно-то знакома. А жиличка, видите сами, не при чём.
– Как это не надо? – под одобрительный шумок жильцов возмутился управдом. – А отвечать, кто будет?
– Товарищи, – строго вмешался доктор. – Можно не шуметь? Здесь больной. Прошу вас, покиньте помещение.
Люба взяла примус, пошла на кухню. Жильцы рванулись кто вслед за ней, кто впереди.
Баба с узлом на лбу грудью загородила дверь на кухню.
– Куда прёшь?.. Ишь, хозяйничает, как у себя в доме.
– Товарищ управдом, – обернулась Люба. – Наведите порядок. Где же мне примус разжигать?
– А вы, дамочка, домой бы шли, – ответил управдом. – Мы здесь сами разберёмся.
Любка задрожала ноздрями.
– Слышишь, Курвянский, наведи порядок, или я сама наведу.
– Курляндский я… И попрошу, – стал заикаться от волнения управдом. – И попрошу…
– Вот я и говорю – Курвянский. – Люба пренебрежительно отвернулась от него, грозно сказала бабе в дверях: – Ну-ка посторонись.
– Слышите, товарищи? Это я должна посторониться. Влезла в чужую квартиру и распоряжается. А ну, катись!
Любка с маху ударила бабу плечом в грудь, протолкалась в кухню. За спиной завизжали, завыли. Лысый поймал Любу за запястье, стал выкручивать ей руку, вырывая примус. Люба дотянулась до стены, сорвала чугунную сковородку, вывернулась, со всего маху влепила чугунным дном в красную морду.
Звон сковороды вибрациями камертона ещё висел в воздухе, когда Люба схватила за шею бабу с узлом на лбу, окунула её головой в стоящий на табурете бак с водой. Баба слепо билась, отчаянно хваталась руками за табурет, за края бака, за Любину юбку. Вода сердито пузырилась, обильно лилась через края.
Люба опамятовалась лишь тогда, когда уже почти утопила бабу. Вырвала мокрую единорогую голову из воды, – баба, слепо разводя в стороны руки, не могла обрести дыхание, по-рыбьи разевала желтозубый рот. Люба в бешенстве схватила со стола кухонный нож, закричала страшным голосом.
– Вон все! Чтобы никого не видела.
Похоже, вид у неё был сумасшедший, – жильцы, толкаясь, бросились из кухни. Последним уковылял лысый, выплёвывая на ладонь красные от крови зубы.
Люба кинула нож на пол, села на корточки, дрожащими от возбуждения руками разожгла примус, поставила кастрюлю с водой.
Под гудение керосинового огня долго сидела, шмыгая носом и мокрыми руками растирая по лицу воду и прилипшие волосы. Где-то хлопала дверь, кто-то шептался, робко заглядывая в кухню. Дверь хлопнула ещё раз, и жильцы осмелели, заговорили в полный голос, загалдели. В кухню вошёл милиционер. Любка даже голову не подняла, лишь покосилась на начищенные сапоги, широкие галифе под расстегнутой шинелью и наган в опущенной к колену руке.
– Товарищ комиссар? – изумился хрипловатый, видно, простуженный голос.
Люба безразлично подняла голову, долго всматривалась.
– Диденко, ты?
– Я, товарищ комиссар. Неужто забыли?
– Помню, Диденко…
– Что тут у вас?
Бабы загалдели наперебой. Люба поднялась, достала портсигар, сказала усталым голосом:
– Идём, Диденко, покурим. Обрисую тебе вкратце.
Минут через пятнадцать они вернулись в квартиру. Люба ушла в комнату к Арине Сергеевне, Диденко собрал жильцов на кухне.
– Это что же такое, граждане. Руку на красного комиссара поднимать? Да вы хоть знаете, какие заслуги имеет человек перед революцией?
– Товарищ начальник, прошу пардона, – зашепелявил лысый. – Заслуженный, значит, увечья мирным гражданам можно учинять?
– Имею сведения, что вы первый руку подняли. Вы, значит, и есть мирный гражданин?
Расшумелись, загудели.
– Тиха-а! – крикнул милиционер. – Шумите? А где вы были, когда она за вас кровь свою проливала?
Замолчали, сердито глядя из-под бровей. Кто-то решил поменять тактику.
– Так ведь из-за чего всё началось, товарищ начальник – из-за буржуйки. Дамочка известная, в угловой комнате проживает. Муженёк её в своё время крови из трудового народа попил неисчислимо.
– Теперь буржуев нет, теперь она такая же гражданка, как и вы.
– Такая же, как я? – взвыла баба, теперь уже вместо платка повязанная влажным полотенцем. – Да она со всем офицерьём в госпитале спала, ни одного не пропускала, а теперь солдатам в прачечной напропалую даёт. И вы говорите, что я такая же, как эта госпитальная шлюха?
– Я ей свечку не держал, – строго сказал милиционер. – И закончим разговор. Чтобы мир мне был и спокойствие на моём участке. А иначе будем с вами по-другому разговаривать.
На прощание по-военному кинул руку к подогнутой вверх будёновке, строгим шагом ушёл.
На второй день Люба снова пошла к барыне, всю дорогу оправдываясь сама перед собой: не бросать же одинокого человека в беде. Похожу, мол, к ней пару деньков, пока не придёт в себя, а там, глядишь, сама управится.
На четвёртый день, когда доктор Андрусевич уверил, что кризис прошёл, Люба попрощалась с Ариной Сергеевной в полной уверенности, что уходит навсегда, но уже на другой день снова оказалась на Семинарской. И опять оправдания: больно много в соседях злобы – заклюют её, слабую, беззащитную. А тут заболела Львовна, и снова понадобилась помощь. Теперь Люба приходила с Максимкой. Мальчишки сдружились: играли во дворе, носились по тесной комнате, устраивали возню в коридоре.
Вскоре Львовна померла. На Успенском кладбище хоронили её Люба, Арина Сергеевна, да внук Львовны, – молодой усатый мужчина, Юрий Цветков, работающий в какой-то канцелярии, – Люба не больно-то вникала.
На десятый день после похорон с помощью начальника ГПУ Люба выхлопотала разрешение и, к неописуемому ужасу соседей, вселилась в комнату Львовны. С того времени Люба и Арина, экономя керосин,