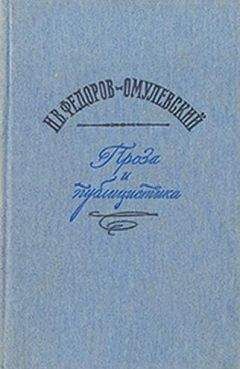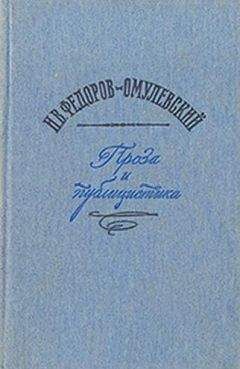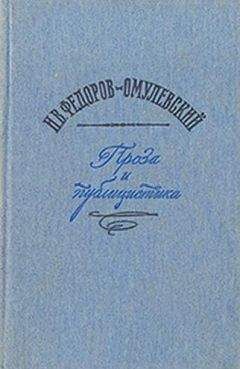«Ты всегда будешь стоять за наши права… за человеческие права твоей матери, не правда ли, Лев?» — так заключала она свое скорбное послание. И действительно, в тот же самый день, как Матов с тяжелой думой пробегал эти жуткие строки, телеграф неожиданно принес ему краткое известие о внезапной кончине Ванды Станиславовны от скоротечной чахотки. Известие это было настоящим ударом для молодого ученого; он просто обезумел от горя. Несколько дней Лев Николаевич чувствовал себя как-то оторванным от жизни, как бы заброшенным в какую-то неизмеримую пустыню. В самом деле, ведь мать была для него всем; в ней одной сосредоточивались все его привязанности, только с ней мог отводить он совершенно по-человечески душу. В четыре года лихорадочной заграничной жизни сердечное влечение к посторонней женщине ни разу не потревожило сосредоточенной натуры доктора; в этом отношении он был пока все тем же нетронутым юношей, каким его знали еще в академии. Правда, однажды, в первые месяцы путешествия, проездом через Цюрих Льва Николаевича неотразимо приковали к себе на минуту темно-карие глаза какой-то скромно одетой довушки, переходившей через улицу от здания университета; но это было просто какое-то мимолетное, почти бессознательное впечатление. Припомнив его почему-то именно теперь, в дни горя, Матов как будто почувствовал себя еще вдвое несчастнее, еще сиротливее. В эти безрассветные дни улыбка понемногу опять исчезла у него с лица или, вернее, приняла ту неуловимую форму, о которой мы заявили в самом начало нашего рассказа.
С тех пор дальнейшее пребывание в Вено стало невыносимым для молодого ученого. Здесь все так живо напоминало ему мать; даже от стен квартиры как будто веяло еще не остывшим дыханием Ванды Станиславовны. Лев Николаевич поспешил в Петербург. Немедленно по приезде туда молодой человек, чтобы скорее забыться, лихорадочно принялся за диссертацию для получения степени доктора медицины, выдержал в академии установленный экзамен и с честью был удостоен докторского диплома. Матову даже предложили остаться в качестве адъюнкта при тамошнем профессоре душевных болезней; но, не отказываясь прямо от этого предложения, Лев Николаевич с благодарностью отклонил его на неопределенный срок под предлогом необходимого отдыха. В сущности же, доктору просто хотелось уехать на время куда-нибудь в глушь, где его не могли так сильно осаждать гнетущие воспоминания о дорогой покойнице; да наконец Матов и сам еще но мог пока определить хорошенько, за что он примется, когда утихнет его душевная боль. Мы уже знаем, какую сторону избрал Лев Николаевич для своей поездки.
С князем Львовым-Островским доктор познакомился случайно, на обеде в одном семейном доме; как людей, встречающихся в первый раз, хозяева, разумеется, поспешили отрекомендовать их друг другу. Молодой гвардеец, узнав, что его новый знакомый психиатр, стал относиться к Матову с какой-то особенно предупредительной, даже заискивающей внимательностью. Им пришлось уходить с обеда в одно время. Дорогой, заговорив с светской находчивостью о специальности своего спутника, Львов-Островский предложил ему зайти в ресторан Вольфа — распить вместе бутылку вина. Лев Николаевич сперва было отказался, но, уступая требованиям вежливости, принужден был согласиться наконец на усиленную просьбу князя. Известный рассказ последнего о тетушке произвел почему-то на доктора не совсем обыкновенное впечатление; по крайней мере, этот рассказ заинтересовал его гораздо сильнее, чем мог предполагать сам Львов-Островский. Очень может быть, что подобному впечатлению значительно способствовали та фальшь и натянутость, какие пробивались почти в каждом слове князя, а может быть, и что-нибудь другое. Во всяком случае, хотя личность Белозеровой и была выведена в рассказе гвардейца в каком-то беспорядочном виде, она тем не менее пробудила в Матове какое-то неопределенно упрямое желание исследовать ее поближе — благо, сам собой представлялся, таким образом, случай развлечься дорогой.
Убаюканный монотонным позвякиванием колокольчиков, Лев Николаевич проспал довольно долго. Когда он очнулся, пурпуровые лучи заходящего солнца так и ударили ему прямо в глаза.
— А что, далеко еще до станции? — спросил он у ямщика, устало потягиваясь в тарантасе и не замечая, что впереди дороги, на небольшом возвышении, показались какие-то чистенькие избы.
— Да вон уже видать ее, Завидовку-то, — головой указал на них ямщик, — и с полверсты теперя не будет.
— Поезжай, приятель, поскорее: ужасно наскучило сидеть, — попросил Матов.
Ямщик молодцевато прибрал вожжи, и тройка, быстро миновав небольшое расстояние, отделявшее ее от соседнего пригорка, осторожно переехала какой-то узенький мостик и понеслась во весь дух по отлогому подъему села, встреченная дружным лаем косматых деревенских собак, так и кидавшихся под ноги лошадям.
Лев Николаевич сел прямее и зорко оглядывался по сторонам, испытывая на этот раз какое-то странное, почти ребяческое любопытство…
По мере того как тарантас подвигался вперед, искусно изворачиваясь в узеньких переулках, между плетеными заборчиками дворов и огородов, Матову все сильнее и сильнее бросалась в глаза проявлявшаяся здесь во всем какая-то необыкновенная опрятность или, пожалуй, зажиточность. По ту сторону Урала доктор не встречал ничего подобного, по крайней мере в таком дружном скоплении на одном месте. Жилье было раскинуто по пригорку довольно широко и живописно, окаймляясь в конце деревни темно-зеленой опушкой хвойного леса. Навстречу тройке то и дело попадались молодцеватого вида крестьяне, прилично одетые. Поравнявшись с нею, они слегка, но радушно приподнимали шапки, очевидно, лишь из побуждения простой патриархальной вежливости, а не ради того, что заподозревали в проезжем чиновное лицо, тем более, что на клеенчатой фуражке доктора не было кокарды. Еще больше попадалось женщин. Часто весьма красивые, почти все одетые, несмотря на будни, с деревенским щегольством, они тоже приветливо кивали головой Матову. Некоторые из них, помоложе, кокетливо приостановившись на минуту, с любопытством провожали глазами тройку. Здоровый, несколько смуглый цвет женских лиц ярко изобличал в них преобладание сибирского типа. Чем дальше следовал тарантас, тем чаще плетеные заборчики стали уступать место настоящим тесовым заборам; начали появляться уже дома городской постройки, в два этажа, непременно с балкончиком наверху, а внизу изредка встречались скромные приюты сельской торговли; промелькнул наконец и веселенький деревенский трактир с какой-то замысловатой аллегорией, неумело намалеванной на покосившейся вывеске.
— Здесь, в селе, должен быть помещичий дом, где же? Его не видно… — обратился Лев Николаевич к ямщику, отрываясь наконец от созерцания этих незатейливых предметов.
— Есть; он вон там, правее будет, у самой речки: вишь, вон где роща-то? Это господский сад, значит, пойдет, а за ним и дом стоит, из-за саду-то его тепериче не видать, — обстоятельно пояснил ямщик. — Так как же тебя везти-то? У Балашева, что ли, пристанете? — спросил он через минуту.
— У него, у него, — поспешил сказать Матов.
Тройка круто повернула налево, в какой-то сравнительно очень широкий проулок, и подъехала к длинному двухэтажному деревянному дому без всякой вывески. На верхней ступеньке довольно крутого крыльца, которое вело прямо с улицы во второй этаж этого строения, стоял в розовой ситцевой рубахе атлетически сложенный, высокого роста старик с гладко расчесанной седой бородой, достигавшей у него почти до пояса. Заслонясь левой ладонью от косвенных лучей заходящего солнца, незнакомец с удивлением смотрел на подъехавшую тройку, пока ее возница проворно слезал с козел.
— Вот гостя тебе привез — постояльца, Микита Петрович, — с поклоном обратился к нему ямщик, очевидно, как к хозяину дома. — Примать?
— Мы гостям завсегда рады, на том, значит, стоим; только вы, к примеру, из каких будете? — степенно осведомился старик у Матова, спускаясь к нему с крыльца и медленно разглаживая правой рукой бороду.
— Здравствуйте, хозяин! Я доктор, — пояснил Лев Николаевич, вылезая из тарантаса. — Мне хотелось бы остановиться здесь на несколько дней, отдохнуть с дороги, так нельзя ли у вас?
Никита Петрович минуту затруднительно помолчал.
— Можно-то оно, пошто не можно, да только мы незнакомых не больно-то любим примать: всякого ведь тут народу довольно ездит… тоже и чиновники, тепериче… — сказал он, несколько замявшись и проницательно оглядывая с ног до головы скромную и вместо изящную фигуру приезжего. — Нам главное, по каким вы таким делам сюда пожаловали?
— Да я просто частный доктор и еду по собственной надобности, — объяснил Матов.
— Так-с… — проговорил Балашов, очевидно, все еще затрудняясь. — А долгонько у нас простоять-то думаете? — спросил он, опять помолчав немного.