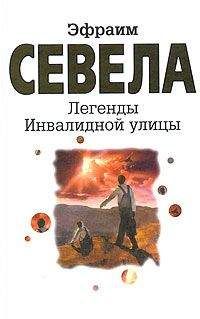В середине ужина залаяли собаки. Вошла Любовь Ивановна с газетами и письмами.
Отец надел пенснэ, стал разбирать зеленые квитанции отправки молока. Я вскрыла телеграмму. Георгий Александрович извещал о приезде.
- Фу ты, Боже мой и всегда в тот день соберутся, когда нет лошадей!
Лошади, конечно, отыскались, и пока мы, баре, еще почивали в розоватом полумраке спален, на заре - Дмитрий с рыжеватыми усами постепенно ехал среди зеленеющих полей, в блеске росы, в славе света, тепла и жаворонков на станцию за барином. А когда солнце выше поднялось, роса обсохла, ветерок синей рябью вздул мельничный пруд, и чайки ярче заблестели, носясь над камышами - барин, в пыльнике, канотье, высокий, худоватый и прямой, с профилем, просящимся на медаль, подкатил к нашему подъезду. Через полчаса вышел на балкон вымытый, в свеженькой визитке и великолепных белых брюках.
- Вы к нам точно на курорт! - Я засмеялась, подавая ему кофе. - Только пляжа у нас нет, вот горе.
- Не смейтесь надо мной, я ведь деревню знаю и люблю, и много жил в ней.
Никому другому не простил бы мой отец белых штанов, но во всем облике Георгия Александровича такая была цельность и такая аристократическая простота, что трудно было бы иначе и вообразить его. Ну, Биарриц, ну, Галкино, ну римский Форум - везде он будет одинаков и нигде фальшив.
После кофе он курил.
- Конечно, все мы баре, выросшие на изящной и спокойной жизни. Многие на это так и смотрят: иного, будто бы, и нет. Но это заблуждение, оно может легко и очень горестно для нас рассеяться. Да вот, я привез последние газеты. В Воронежской губернии волнения. Жгут экономии, бьют скот помещичий, идут погромы. И признаться, когда нынче я катил в коляске, то мне приходило в голову: пожалуй, что и здесь придется быть свидетелем… невольным - кое-чего в этом роде.
Отец махнул досадливо.
- Э-э, пустяки. Чего там!
Маркуша встал и зацепил ногою стул.
- Знаешь, все-таки… дядя Коля… что ни говори… такое время… здесь хоть мужики и не особенно настроены… воинственно… но мысль о земле сидит в них крепко.
Отец подпер рукою щеку, затянулся не без безнадежности.
- Все бредни, разговоры, все пустяки.
Я перебила разговор.
- Георгий Александрович, пока нас не сожгли еще, пойдемте, я вам покажу усадьбу.
- Ты показала бы молочную, конюшню… - отец опять махнул рукой. - Что-нибудь жизненное и полезное. А то пойдут пейзажами любоваться…
- Я не знаю, - говорила я Георгию Александровичу, ведя его вниз, между рядами яблонь, к пруду, - что, сожгут нас или не сожгут. Да право, как-то мало думаю об этом. А сейчас вот просто: солнышко, тепло и весело. Могла бы спеть, потанцовать.
- Вас трудно и вообразить хранительницею отцовского добра. Помните, как студент сказал: яблонка цветущая и ветер - ваши покровители?
Оставим на студентовой ответственности эти слова, и прав он или же не прав, но в то утро я, действительно, была смешлива, весела, как девочка, а не как мать уже порядочного ребенка. Мне нравилось, что и Георгий Александрович смотрел на меня с приветливостью и даже ласковое что-то было в утомленных, несколько немолодых его глазах. Мне нравилось его изящество, спокойствие, столичный облик - это как-то подбодряло, взвинчивало.
Георгий Александрович легко вошел в жизнь нашу - усиливал партию дачников, но и с отцом был хорош. Только над штанами белыми не мог тот не трунить: уж очень все это не подходило к его взглядам.
Все-таки, белые штаны были полезны. В них играл Георгий Александрович со мною в теннис - худой, длинный и ловкий.
Мы сражались с ним на теннисной площадке до изнеможения.
- Ну, господин барин, Георгий Александрович, - говорила я, отирая лоб платочком, - похвалит нас с вами папаша, или не похвалит, что вот мы в уборку, в золотое время, пустяками занимаемся?
Золотые волны-свет пробивались кое-где сквозь липы легкими столбами и каскадами, зажигали воздух, без того душисто-душный. Пчелы в высоте гудели - смутной, милой музыкой. Лазурно небо. Покос медвяный, и цветенье лип.
- Жизнь проносится, Наталья Николаевна. Не будем ждать в ней невозможного. Но не откажемся от малых радостей, даримых ею. Игра, пчела, свет солнца и благоухание лугов…
- А дальше?
- Дальше я не знаю. Все от нас закрыто.
- А видите, ведут сына моего. Сын, радость малая, или великая?
Он на меня взглянул внимательно, как будто даже с грустью.
- В общем вы не тип матери.
Я засмеялась.
- Кто же я? Артистка? Может быть - гетера?
- Вы просто та, кто есть вы: жизнелюбица. А сын… великая ли радость…Да, великая, но страшная.
Опять заметила я у него в глазах то выражение, как и тогда, на Никитской.
- Ах, Кассандра вы какая…
Взяла ракетку. Медленно мы двинулись домой.
Мы пили бесконечные чаи на террасе нашей, увитой хмелем, и в просвете колонн мирно в солнце вечереющем теплели луга, озеро у мельницы, как серебряная инкрустация, и по взгорью дальние березы парка. Помню я хрустальность, тишину и теплоту этого вечера, одного из тех, когда жизнь может показаться сладким бредом, нежною игрой светоблагоуханья. Ничего в нем не случилось - улыбнувшись, он ушел, выведя за собой голубую ночь. Ночь будто бы текла бестрепетно, но для нас не оказалась столь покойной. Довольно поздно, но не знаю именно когда, меня разбудил шум - телега грохотала. В комнате мезонина нашего был странный, неприятно-красноватый отблеск. Маркуша одевался. Внизу - голоса.
- Ты знаешь… да ты не волнуйся, ничего особенного.
Я спрыгнула с постели. В окне чернели липы, а над ними и сквозь них, туманно розовея, медленно клубилось, сладко в небе таяло - спокойное, величественное зарево. Гул доносился. Вдалеке шла драма, сюда же долетала лишь смягченная, но и тревожная ее музыка.
- Это, наверно, хуторок… Ты, пожалуйста… Наташа… не волнуйся… я бегу, может, помочь…
Я его не задерживала. Сидела пнем, и только сердце у меня плавно переливалось, как те клубы розовые над липами… «Верно, подожгли Степана Назарыча. Наверно подожгли».
Зарево разгоралось. Теперь в комнате было светло, неестественно розовым светом. Я слышала, как вышел на балкон отец, ворчал и кашлял, я ощущала и шаги Георгиевского по дорожке, но не сошла вниз. Андрюша спал в своей кроватке. Я села рядом с ним. О, как прозрачны, нежны веки у заснувшего ребенка! Как он бесконечно кажется беспомощным.
На Андрюшу пали пурпурные отблески, и то, что его личика касались отголоски злобы, мщения, было мне неприятно. Я спустила шторы. Усталость и истома на меня напали. Сердце как-то все болело. Не вспомнила я даже и Маркушу, не думала - опасно, или неопасно жить сейчас в деревне, будут ли здесь беспорядки - просто ощущала смутное давление. И только улыбнулась раз, но не без нежности: вот бы Георгию Александровичу в белых его брюках, да тушить пожар!
Через час стало светать. Другой свет, радостный и братский, занялся над миром, от него не занавешивала я Андрея. Но уснуть сама уж не могла. Маркуша, возвратившись, рассказал мне, что сгорел, действительно, Степан Назарыч.
VI
Степан Назарыч, хуторянин, наш сосед, раньше служил в Большой Московской. Подавал пальто, калоши разным именитым людям и считал себя знакомым чуть не со всей Россией. Упрямый, рыжеватый человек с упрямым взглядом. На гроши, собранные чаями, выстроил себе дом, развел хозяйство, - пахал, сеял клевера, насадил сад и глубоко ненавидим был односельчанами за то, что выбился в круг высший - мельников, барышников и огородников. Он уважал отца за барство, за дворянство, иногда ездил к нему: сидел часами, разглагольствовал, выпучивал для убедительности рыже-зеленые свои глаза.
- Господин Георгиевский мне даже оч-чен-на знаком, - он важно подымал веснушчатый свой палец и распирал глаза, - это даже весьма тонкий барин.
После пожара заявился к нам, подавленный, но сдержанный.
– Сожгли мерзавцы-с… - он задумался глубокомысленно, - и безо всякого сомнения сожгли. Сволочной народишко, Николай Петрович, даже совершенно сволочной.
Отец дал ему взаймы на обзаведенье, история с пожаром не особенно ему понравилась. Это он скрывал. И когда заговаривали, досадливо отмахивался.
- Никаких волнений, беспорядков и не может быть. Фантазии.
Я с ним не спорила. По легкомыслию ли, беззаботности – я мало придавала этому значения. Правда, ночь пожара, красноватый отблеск на Андрее, зарево, набат - все это неприятно, но в те годы мало я задумывалась.
Недели две еще сражались мы в лаун-теннис, ездили по вечерам в коляске - Маркуша за кучера - и встречали по дороге золотые возы со ржаными снопами. В поле, при закатном, светлом солнце, бабы в длинных белых рубахах, в шерстяных перчатках вязали, складывали в крестцы, и с изумлением подымали лица обожженные на нас, кативших неизвестно для чего, в уборку, по полям.
И когда вечером, в большой нашей зале, с разложенными липкими бумажками для мух, я пела, то мои Чайковские, и Шуманы, и Глинки все витали в четырех тех же стенах, где Маркуша слушал преданно, отец снисходительно, Георгий Александрович задумчиво.