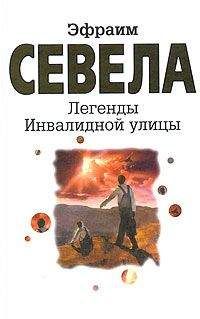Георгий Александрович улыбался.
— Какая вы сегодня…
— Ну?
Я взглянула на него, прямо в глаза. Он глаз не опустил, но чуть-чуть изменился. Взял за руку, слегка пожал.
Скрипач выполнил бис, ему похлопали, прошла минута, и я вышла с аккомпаниаторшей к роялю.
Свет меня полоснул, тот самый, что я видела из-за кулис. Я полегчала. Никого в зале не могла перед собою разобрать. Свет, блеск и молодость — мое, и Глинка — мой, и как услышала звуки аккомпанемента, то ощутила — я сейчас уйду от них, совсем не буду чуять ног и тела.
«Уймитесь вол-лнения страсти»… Голос мой шел ровно и легко. В зале утихли, раза два цыкнули на входивших, а затем и вовсе замолкли. Мне приятно было петь. Я отошла от себя, и кто-то твердо вел меня воздушною дорогой через молчавший зал. Я сознавала все, но не могла не истекать свободной песней. Слушала ее будто со стороны. Мне было жалко кончить, я могла петь сколько угодно. Но с тою же неотвратимостью, как взял — и отпустил меня мой милый дух. Я смолкла. Поклонилась чуть-чуть публике, и двинулась. Сначала — тишина, потом вдруг прорвалось и затрещало, треск переливался, рос и опадал.
Я отошла в кулисы, где Георгий Александрович, побледневший, вновь поцеловал мне руку, но теперь иначе.
— Выходите, выходите…
Я бессмысленно улыбалась. Сбоку вновь шепнули — выходите, и я вышла, кланялась, теперь кричали бис, опять я пела, опять странствовала со своим водителем, опять был шум, и я раскланивалась.
Отделенный от меня рампою, высокий черный человек в сюртуке, с раскрасневшимся лицом, взлохмаченною головой, колотил крупными ладошами, иногда махал платочком, орал «браво». Я смутилась — в первый раз за этот вечер, и безвольно поклонилась. «Ах, какой большой и какой шумный». Александр Андреич, разумеется. «Вот какой… упорный». Что-то ласковое, бурное пронеслось во мне. Но некогда было. Да, успех, успех! Крылья победы, вы несли меня в тот вечер безудержно, ваше опьянение я помню — не забыть его.
Георгий Александрович взял меня под руку, сводя вниз винтовой лесенкой, в углу остановился.
— Все нынче вам… к вашим ногам.
Внизу мне поднесли цветы и поздравляли. Я сидела за столом, отхлебывала чай с печеньем, и все лица предо мной кружились, появлялись, исчезали, все в волшебном том тумане, из которого я только что сюда спустилась.
— Ах, вот она, певица наша, вот где… Рад и счастлив. Ручку!
Предо мной был Александр Андреич, все такой же черный и громадный, как и там, у рампы, и с такими же взлохмаченными, но уж редкими, с сединой волосами.
— Вот она, соловушка…
И не спросясь, хочу я, не хочу, сел рядом, полуобнял спинку стула моего и грузно, тяжело склонившись, стал болтать. Глаза блестели, и теплом и мощью от него светило. «Да, но ведь мы едва знакомы», мне стало немножко жутко. Я его второй раз вижу, а уж он сидит как свой, целует руку, я ему «соловушка», и главное — не только не сопротивляюсь я, но мне весело, ужасно как удобно и приятно, просто с ним — пусть он и выпил, и глаза слегка уж красные.
— Георгий Александрыч, милый, позвоните нашим, что там, дома…
Георгий Александрович встал, и вышел.
— А? Что? Домашние заботы? Мать, жена…Мальчишка кашляет? Ипекакуана для него в аптеке, и касторки.
Да, я почему-то хохотала, а Андрюша, правда, ведь, был болен, и сама же я могла теперь домой уехать, но не уезжала, даже к телефону не пошла. И когда Георгий Александрович вернулся, мы сидели наверху, в ресторане — ужинали.
Ничего дома не случилось, все благополучно, и Андрей заснул. Со мною чокались актеры, дамы, притащился старичок из дирекции — благодарил.
Мне было весело. Дом, и Маркуша, и Андрей — все это существует, ладно, и все мило, но ведь это там, а здесь шум, блеск, веселье, поклоненье, может быть — и слава.
После ужина Александр Андреич потащил меня играть. Он сразу изменился.
— Милая, на ваше счастье… Ну-ка, вы помочь должны… голубушка, певица, светлая моя барыня, грубому человеку и так называемому художнику… А-а, я люблю выигрывать и спускать потом люблю.
Глаза его блестели, и болезненное в них зажглось.
— Неприятен чистому существу? Но такой уж есть, хотите принимайте, а хотите — по шеям ему, все примет… пьяница, картежник, самоед… сам себя пожирает.
Я не очень его тогда понимала. Сумбурным от него веяло, и как мало походил он на Маркушу, на Георгиевского, тоже с нами в зал последовавшего.
Игроки, дамы в бриллиантах, зеленое сукно стола, ящик для карт, табачный дым, фрески бледно-фиолетовые на стенах, и недоеденные ужины, кучи бумажек разноцветных — все мелькнуло, и уносится из памяти моей, как и то время — туманное и острое для меня время.
Я помню — было поздно, и мы выходили с Александром Андреичем, на нем была шуба нараспашку с бобровым воротником, на голове шапка бобровая, и мы летели в санках к Яру, и опять звезды морозные неслись над нами, но Георгия Александровича уж не было, и когда лихач гнал за Триумфальной аркой, Александр Андреич обнимал меня рукой за талию, крепко держал и шептал, что я сегодня публике за то понравилась, что просто я такая – вовсе не за пение, и что все это необычайно и прекрасно. Я ничего почти не понимала, жуткое и сладкое пронизало мне душу.
VIII
Первый раз я была в мастерской Александра Андреича январским, солнечным, но не морозным утром. Оттепель! Блестела лужа на углу Староконюшенного, туманно-голубеющий свет над Москвой, и так легко, так остро дышется. Пожалуй, что ушла зима, всегда будет тепло, светло, и никогда ноги не устанут, грудь дышать не притомится.
Он занимал отдельный дом в саду, рядом с особняком. Деревья, тонкие акации шпалеркой, сетка тени на снегу ослабшем, и капель с крыльца — и дверь на блоке, а над ней скульптура, голова Минервы в шлеме. Выше, как в оранжерее, вся стена стеклянная, и когда войдешь, сразу светло, пахнет и красками, и глиной — Александр Андреич и лепил — куски холста, торсы и ноги, кресло вращающееся, и в переднике, измазанный, всклокоченный — хозяин.
— Ага, видение весеннее, прелестно, а-а… прелестно.
Целует руку, я снимаю шубку и осматриваюсь, мне все ново здесь, все интересно, свет волной бьет сквозь оттаявшие окна, и по лесенке мы подымаемся наверх — там антресоль, логово его за портьерой: диван и стол, клубится самовар, конфеты, фрукты и вино. Видимо меня ждали.
Мне нравилось здесь, очень все понравилось в тот солнечный и светлый день. Мне даже черезчур понравилось.
— Вот тут я живу… что называется, творю, т.е. малюю и леплю, расчерчиваю свои макеты, и тащу — в театр, на выставку… деньгу гоню, в карты луплю, выигрываю и спускаю… и считаюсь я художником известным. Да, но вы думаете, меня не ругают?
Он схватил газету, хлопнул по ней.
— Меня считают опустившимся, я, видите ли, трачу дарование свое, меняю на бумажки, становлюсь ремесленником… Да, ну ремесленник, и не скрываю, и заказы исполняю, есть и подмастерья… будто и у Рубенса их не было?
Глаза его блеснули, весь он исказился и стал злым, даже и побледнел. Мне тоже, почему-то, это нравилось.
Он же вновь спохватился.
— А-а, к чорту… гостья дорогая, а я вздор. Ругают, и ругают. Вздор. Если пришли, то значит весело, то значит, хорошо, ершиться нечего.
И от того, утреннего посещения, мастерской, солнца, света, красок и макетов — у меня осталось легкое и ясное воспоминание. Мы пили чай с конфетами. Он развеселился, хохотал. У меня не было чувства, что я делаю плохое. Думаю, и он не считал — впрочем, он и вообще не рассуждал, в этом мы похожи были: оба жили, как нам нравилось. Он распространял себя в этом светлеющем к весне мире, вряд ли способен был пропустить что-либо.
Я же выезжала, пела, успевала — меня тоже вела моя звезда. Да, он вывез меня в свет. Очень изменилась моя жизнь с вечера в клубе — пришел успех. Слава — я не скажу. Голос мой не из крупных. Тембр приятен, знаю. Я могу спеть романс; вкус есть, допустим; и выразительность, тонкость деталей — шарм некоторый. Публике я нравилась. Меня приглашали на концерты, и газеты одобряли. Новые знакомства появились. Все более теряла я оседлость, дом мой делался гостиницей.
Маркуша не противоречил. Я была свободна.
И свободой пользовалась. Александра же Андреича все чаще видела.
— И еще чаще желаю, чтобы приходили… чтобы постоянно в этой комнате… вы хорошо на сердце действуете, я спокойней с вами. Чорт побери, в вас легкость, ну… психический озон… а-ха-ха… — он радовался, что нашел слово. — Озон, озон! А то мне — скучно. Вы молоды, жизнь не приелась вам еще, как мне, вы без озона, сами собой живы. Я тоже был…
— Ах, вы послушайте, я ведь не лыком шит. Мне кое-что дано? Дано, дано, ну, а растрачено… Фу-фу, растрачено… И все поднадоело. Идиоты пишут, что я кончился, художником. Им все позволено, но ведь и я… ну не могу же я не понимать, что я не тот — уходят силы-то? А? Любовь? Мы очень резко трепетать на мир должны, коли живем, а если не трепещем, значит к чорту, к чорту…