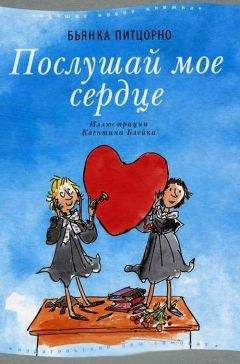не понадобится.
Об этих спорах мы знали из рассказов экономки. Она также не раз говорила нам о страстных посланиях, регулярно приходивших на адрес Артонези в сопровождении огромных букетов цветов. И о долгих днях, когда синьорина Эстер плакала в своей комнате, поскольку отец теперь не позволял ей выходить из дома одной, а всем возможным компаньонкам было приказано не допускать её контактов с маркизом.
Как-то утром девушка, очень бледная, вошла в отцовский кабинет и молча протянула ему только что полученное письмо: «Если я не смогу получить тебя, то покончу с собой. Без тебя моя жизнь не имеет смысла».
«Если Гвельфо убьёт себя, я последую за ним в могилу», – заявила Эстер с таким убийственным спокойствием, что синьор Артонези впервые по-настоящему испугался. Он смирился, принял претендента на руку дочери и долго с ним беседовал. В итоге молодые могли отныне считаться официально помолвленными, хотя и не должны были встречаться наедине. Маркиз имел право приходить к Эстер домой, обедать с ней по воскресеньям, сопровождать их с отцом в поездках на мельницу и пивоварню, посещать в компании тётки и кузин городские балы-маскарады или пить со своей невестой горячий шоколад в самом роскошном местном кафе – том, что на проспекте, прозванном за остеклённую террасу «Хрустальным дворцом», куда захаживала одна только знать. Но уединяться им двоим не следовало: отец поставил условие, чтобы свидания всегда происходили при свидетелях. Впрочем, писать друг другу они могли без каких-либо ограничений и контроля. Что касается приданого, синьор Артонези пообещал выплачивать дочери солидное содержание, но никакого недвижимого имущества в собственность не отдавал. «После моей смерти она унаследует всё, так что это, вроде бы, уже её собственность», – сказал он, и маркиз постыдился возражать. Помолвка должна была продлиться два года, чтобы проверить взаимность чувств влюблённых: разумеется, разорвать её после официального оглашения, о котором сразу же узнал весь город, было бы невероятным скандалом. Но синьора Артонези больше интересовала не репутация дочери, а её счастье, да и сама она осуждения не боялась.
С этого момента синьорина Эстер начала готовить приданое. Жених хотел было заказать всё готовое из Парижа, как это делали, например, синьорины из семейства Провера, но невеста не доверяла каталогам. Заказы на платья были отданы в оба городских ателье, чтобы никого не обидеть. «Остаётся надеяться, что эти тщеславные портнихи понимают: девочка ещё растёт, не стоит шить ей одежду по нынешней мерке», – заметила моя предусмотрительная бабушка, раздуваясь от гордости, что за бельём Артонези обратились именно к нам.
На эти два года мы дали отставку всем другим заказчикам (впоследствии стало ясно, что это было серьёзным просчётом) и работали только на Артонези: носовые платки, простыни, скатерти и шторы шили дома, остальное – в их доме, в комнате для шитья. Бабушка подготовила будущей невесте уйму ночных сорочек, лифчиков, нижних юбок, домашних халатов и восхитительных накидок-пеньюаров, отороченных кружевами, специально привезёнными из Швейцарии. Меня же она с каждым днём учила всё новым деталям: как сделать подгиб на рюши у́же, а петли – мельче, как выкроить воланы... Я ведь тоже росла – совсем как синьорина Эстер: в конце концов, нас разделяло меньше трёх лет.
Платили нам вовремя и щедро, кормили хорошо, обращались вежливо; так можно работать лет десять, если не больше! Через пару месяцев я набралась смелости и спросила синьорину Эстер, нельзя ли мне одолжить у неё несколько романов, и она не только согласилась, но и с энтузиазмом взялась руководить моими занятиями, а, будучи постоянной подписчицей журнала «Корделия», каждую неделю отдавала мне прочитанный номер. Уроков музыки, языков и естествознания она не бросала, но училась теперь с куда меньшими энтузиазмом и вовлеченностью, чем раньше, – ещё и потому, что жених, хоть и относившийся к её увлечениям снисходительно, этого не отнять, всё-таки считал их чудачеством, если не детским капризом.
Глаза у меня по вечерам совсем слипались, но всё же за эти два года я вполне могла бы научиться многим полезным вещам, хотя сама предпочитала те, что бабушка считала вредными. «Не стоит желать того, чего никогда не получишь: по одёжке протягивай ножки», – не раз повторяла она, видя, как я вздыхаю над очередным романом. Я же теперь точно знала: любовь прекрасна, ради неё можно с лёгкостью пойти на любые жертва, а влюблённые мужчины вовсе не так нелепы, как я считала раньше. И маркиз Гвельфо Риццальдо – один из лучших: он ведь и жизнь готов отдать за свою Эстер, как она готова на всё ради него. Я тоже мечтала встретить своего мужчину, красивого и нежного молодого человека, который любил бы меня так же сильно, как маркиз. А вот грубые комплименты уличных торговцев и мелких лавочников меня только оскорбляли и расстраивали. Понятно, что рано или поздно мне придётся смириться и выбрать одного из них: всё-таки я была не настолько наивна, чтобы строить иллюзии относительно прекрасного принца. С другой стороны, мечтать-то ведь можно и бесплатно.
Время шло, синьорина Эстер продолжала расти и потихоньку начала отдавать мне платья, которые стали ей коротки, хотя и выглядели по-прежнему как новенькие. Бабушка немедленно их перешивала под мои размеры, предварительно споров оторочку, бахрому, пуговицы, тесьму и кружевные оборки: «Нечего тебе красоваться, как дочке какого-нибудь синьора! И ту, кто тебе их дал, смущать будешь, и меня, что такое позволила». Но ведь качество не спрячешь: платья были из очень хороших тканей и разительно отличались от тех, что я носила раньше. А вот свои туфли синьорина Эстер, к сожалению, отдавать не могла: её ножка была тонкой и узкой, гораздо меньше моей. Мне же приходилось покупать новую обувь каждый год, потому что ноги у меня тоже росли, а туфли, даже если покупать их у сапожника из ближайшего переулка, были недешёвы. Что касается шляпок и зонтиков, их синьорина после недолгого использования отдавала кузинам, которые затем слегка перелицовывали их у модистки. Дарить же мне шляпки было бы немыслимо: женщины моего класса, даже самые богатые и тщеславные, никогда их не надевали – просто не посмели бы. Тогда и зонтик казался отчаянной дерзостью: он считался