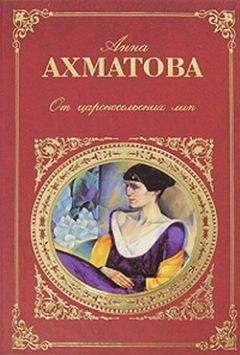1925 – 1965
…Но в мире нет власти грозней и страшней,
Чем вещее слово поэта.
1960-е годы
* * *
Ее называли камерной, комнатной, интимной, тихой, тишайшей. Даже такой человек, как Тынянов, говорил о шепотной Ахматовой. Этому отдали дань почти все, вплоть до Твардовского.
– Чем вы объясняете такое явление: выхожу к публике, читаю очень тихо, прекрасно слушают… Кто-то из зашедших в артистическую говорит: «Громкие стихи»…
Камерная, интимная, тишайшая, как оказалось, выразила целую эпоху, громоносную эпоху.
Корней Чуковский.
Из воспоминаний об Анне Ахматовой
Вместо предисловия
В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях Ленинграда. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):
– А это вы можете описать?
И я сказала:
– Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.
1 апреля 1957
Ленинград
Нет! и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл -
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ,
к несчастью, был.
1961
Посвящение
Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат —
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый
скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались, как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор… И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет… Шатается… Одна.
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный свой привет.
Март 1940
Вступление
Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском качался
Возле тюрем своих Ленинград.
И, когда обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.
1
Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки.
Смертный пот на челе… Не забыть! —
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.
Осень 1935
Москва
2
Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.
Входит в шапке набекрень,
Видит желтый месяц тень.
Эта женщина больна,
Эта женщина одна,
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.
3
Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари…
Ночь.
4
Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случилось с жизнью твоей —
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука – а сколько там
Неповинных жизней кончается.
1938
5
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
И только пыльные цветы,
И звон кадильный, и следы
Куда-то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.
1939. Весна
6
Легкие летят недели.
Что случилось, не пойму.
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели.
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком,
О твоем кресте высоком
И о смерти говорят.
1939
7Приговор
И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.
У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.
А не то… Горячий шелест лета,
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.
1939. Лето
8К смерти
Ты все равно придешь – зачем же
не теперь?
Я жду тебя – мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись,
Как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом,
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой, —
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застилает.
19 августа 1939
Фонтанный Дом
9
Уже безумие крылом
Души закрыло половину,
И поит огненным вином,
И манит в черную долину.
И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.
И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивай его
И как ни докучай мольбою):
Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье, —
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,
Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.
4 мая 1940
Распятие
Не рыдай Мене, Мати,
во гробе зрящи.
1
Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А Матери: «О, не рыдай Мене…»
2
Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.
Эпилог1
Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною,
И в лютый холод, и в июльский зной,
Под красною ослепшею стеною.
2
Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до конца довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
И ту, что, красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой».
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них я соткала широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем – не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлюпала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.
1940. Март
Фонтанный Дом
Б. К. Зайцев. 1960-е годы.
Писатель Борис Зайцев, покинувший Россию в 1922 году и обосновавшийся в Париже, так вспоминает явление «Реквиема»:
Полвека тому назад жил я в Москве, бывал в Петербурге. Существовало тогда там… артистическое кабаре «Бродячая Собака»… В один из приездов моих в Петербург, в 1913 году меня познакомили в этой Собаке с тоненькой изящной дамой, почти красивой, видимо, избалованной уже успехом, несколько по тогдашнему манерной. Не совсем просто она держалась. А на мой, более простецко-московский глаз, слегка поламывалась… Была она поэтесса, входившая в наших молодых кругах в моду – Ахматова. Видел я ее в этой Собаке всего, кажется, один раз. На днях получил из Мюнхена книжечку стихотворений, 23 страницы, называется «Реквием». На обложке Анна Ахматова (рис. С. Сорина, 1913). Да, та самая… И как раз того времени… Говорят, она не любила этот свой портрет. Ее дело. А мне нравится, именно такой помню ее в том самом роковом 13-м году. Но стихи написаны позже, а тогда не могли быть написаны… Эти стихи Ахматовой – поэма… (Все стихотворения связаны друг с другом. Впечатление одной цельной вещи. Дошло это сюда из России, печатается «без ведома и согласия автора»… Издано «Товариществом Зарубежных Писателей», списки же «рукотворные» ходят, наверное,… по России как угодно)… Да, пришлось этой изящной даме из Бродячей Собаки испить чашу, быть может, горчайшую, чем всем нам, в эти воистину «Окаянные дни» (Бунин). Я-то видел Ахматову «царскосельской веселой грешницей» и «насмешницей»… Можно ль было предположить тогда… что хрупкая эта и тоненькая женщина издаст такой вопль – женский, материнский, вопль не только о себе, но обо всех страждущих – женах, матерях, невестах, вообще обо всех распинаемых?