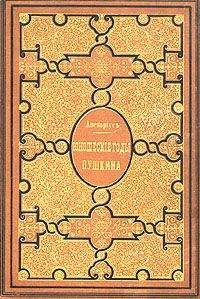Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, в которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами, и проч., и проч. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда, с самого лицея писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах).
После первых наших обниманий пришел и Алексей, который, в свою очередь, кинулся целовать Пушкина: он не только близко знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов.
Подали нам кофе; мы уселись с трубками. Беседа пошла правильнее; многое надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга.
Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако же, ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась — в каждом слове, в каждом воспоминании: им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне.
Я привез Пушкину в подарок "Горе от ума"; он был очень доволен этой, тогда рукописной комедией, до того ему вовсе почти незнакомой. После обеда, за чашкою кофею, он начал читать ее вслух; жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частию явились в печати.
Потом он мне прочел кое-что свое, большею частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пьес; продиктовал начало из поэмы «Цыганы» — для "Полярной звезды, и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические Думы.
Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить; на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись, в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчала расставанье после так отрадно промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что в последний раз вместе пьем и пьем на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце со свечкой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: "Прощай, друг!" Ворота скрипнули за мной…"
Друзьям не было уже суждено свидеться: вскоре Пущина превратная судьба занесла на другой край света — на границу Китая, в Читу. Но в самый день прибытия его туда ему вручили пришедшее уже раньше приветствие друга-поэта:
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое Провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!
Уже стариком Пущин получил разрешение возвратиться на родину, в село Марьино, Бронницкого уезда, Московской губернии, где тихо и окончил век свой 3 апреля 1859 года.
Еще безотраднее была судьба третьего приятеля Пушкина, Кюхельбекера. Несмотря на свои выдающиеся способности, на свои прекрасные душевные качества, на свое немецкое усердие и терпение, он, как и надлежало истому Дон Кихоту, начал и кончил жизнь восторженным сумасбродом и неудачником. Попав с лицейской скамьи вместе с Пушкиным в коллегию иностранных дел, он, однако, скоро бросил службу и укатил за границу. Здесь, в Париже, он не без успеха прочел по-французски несколько лекций о славянской литературе; но он дал слишком большой простор своему красноречию; и его вызвали обратно в Россию. Перейдя на службу в Тифлис, он близко сошелся там с Грибоедовым. Но его тянуло в Москву, и в 1823 году он окончательно перебрался туда. Существуя уроками в университетском пансионе и в частных домах, он все свободное время посвящал литературе. Даже Пушкин, который прежде постоянно подтрунивал над его стихотворными опытами, начал относиться теперь к ним снисходительнее: благодаря своей настойчивости Кюхельбекер выработал себе понемногу правильный русский слог и стал строчить очень недурные, хотя и напыщенные стихи, которые охотно принимались в журналы. В сообществе с князем Одоевским он предпринял, наконец, и собственный журнал: «Мнемозину». Но роковой для многих русских литераторов 1825 год оказался таковым и для Кюхельбекера. Десять лет несчастный безумец должен был искупать свои заблуждения в стенах тюрьмы, а всю остальную жизнь — в ссылке. Но и в заточении, в разлуке со всеми близкими, он не упал духом: по доставлявшимся ему журналам и книгам он прилежно следил за умственным движением и ростом милой ему России, вел дневник всему прочитанному и лучшее утешение находил в молчаливой беседе со своей собственной Музой. 19 октября 1836 года, когда Пушкин в последний раз праздновал с друзьями в Петербурге лицейскую годовщину, на другом краю света опальный товарищ его, Кюхля, изливал в стихах свои чувства к ним и в особенности к Пушкину, своему идеалу:
Чьи резче всех рисуются черты
Пред взорами моими? Как перуны
Сибирских гроз, его златые струны
Рокочут… Пушкин! Пушкин! Это ты!
В 1837 году Кюхельбекер женился на совершенно необразованной девушке, дочери баргузинского почтмейстера, которая нимало не могла разделять его возвышенных стремлений. Во время зимней бури в 1844 году, переезжая Байкал и спасая жену и детей, Кюхельбекер так простудился, что уже не поправился. Вдобавок он вскоре еще ослеп. Незадолго перед своим концом он продиктовал старому товарищу своему, Пущину, последнюю свою волю и умер от чахотки в Тобольске 11 августа 1846 года. На могильной плите его начертали всепрощающие слова Спасителя:
"Приидите ко Мне вси страждущий и обремененнии и Аз упокою вы!"
Двое других лицейских стихотворцев, связанные между собой тесной дружбой как создатели "Лицейского мудреца", Илличевский и Корсаков, не оправдали возлагавшихся на них надежд. Илличевский, которому профессор Кошанский отдавал когда-то предпочтение даже перед Пушкиным, оставил след в литературе небольшим только томиком стихов "Опыты в антологическом роде", изданным в 1827 году, на служебном же поприще дошел не далее начальника отделения. Из Корсакова, поэта и музыканта, может быть, со временем и развился бы талант, но уже три года по выпуске из лицея он скончался, как и Кюхельбекер, от чахотки на чужбине, во Флоренции. Достойно удивления присутствие духа, которое выказал Корсаков перед неизбежным концом: за час еще до смерти он сочинил самому себе русскую надгробную надпись и нарочно написал ее четкими, крупными литерами, чтобы итальянские граверы, копируя, ненароком не исказили ее. Вот эта надпись:
Прохожий, поспеши к стране родной своей!
Ах! Грустно умирать далеко от друзей!
В одном из своих стихотворений, посвященных лицейской годовщине (1825 г.), Пушкин, пересчитывая отсутствующих друзей, сочувственно вспоминает и о Корсакове:
Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом.
Две матки лицейские, граф Броглио и Комовский, имели диаметрально противоположную участь. Первый, замешанный в 1829 году в возмущении Греции, погиб молодым еще человеком геройскою смертью в случайной стычке; второй, прослужив недолго помощником статс-секретаря государственного совета, удалился в свою частную жизнь и окончил ее мирно в глубокой старости, в 1880 году, искренне оплакиваемый семьей и многочисленными друзьями.
Большинство других товарищей Пушкина, упоминаемых в нашем рассказе, достигло на государственной службе "степеней известных": Ломоносов был посланником в Гаге, барон Корф — членом государственного совета и директором Императорской Публичной библиотеки, Корнилов — сенатором, Бакунин — тверским губернатором, Вальховский — бригадным генералом, Матюшкин — адмиралом, Маслов — директором департамента податей и сборов, Малиновский и Данзас — полковниками. Всех их, однако, неизмеримо опередил один — князь Горчаков. Как в лицее он был у всех на виду, ставился всем в пример, так точно и за стенами лицея он выдвинулся впереди всего русского народа, стал первым подданным русского царя — государственным канцлером и министром иностранных дел. Сколько раз судьба России была, можно сказать, в его руках! Сколько раз взоры всей Европы были неотступно устремлены на него! И ему же было суждено пережить всех первенцев лицея. Удалившись уже от дел, но сохраняя почетное звание канцлера, он угас от старческой дряхлости 27 февраля 1883 года. Таким образом, к нему, оказывается, относились вещие слова его гениального товарища-поэта: