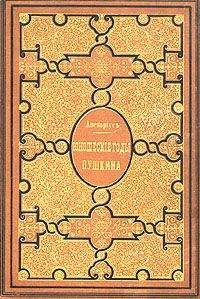Поговорка, что никто не бывает пророком в своем отечестве, неприменима к Пушкину. Он уже в молодые годы пользовался такою популярностью, что, куда бы он ни показался, везде сбегались глазеть на него, как на диковинного зверя. В одном из писем своих к Дельвигу из Тверской губернии, где он гостил в 1828 году у близких знакомых, он рассказывал о таком забавном случае:
"Соседи ездят смотреть на меня, как на собаку Минуто.[64] Петр Маркович[65] здесь повеселел и уморительно мил. На днях было сборище у одного соседа; я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму, черносливу и думала тихонько от них убраться. Но Петр Маркович их взбудоражил, он к ним прибежал:
— Дети! дети! Мать вас обманывает! Не ешьте черносливу, поезжайте с нею: там будет Пушкин; он весь сахарный, а зад его яблочный; его разрежут — и всем вам будет по кусочку.
Дети разревелись:
— Не хотим черносливу! Хотим Пушкина!
Нечего делать — их повезли, и они сбежались ко мне, облизываясь; но, увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили".
Из множества подобных анекдотов приведем еще только один, где разочарование было на стороне Пушкина. Во время одного из своих странствий по России поэт наш в ожидании, пока на почтовой станции перепрягали лошадей, вошел в общую комнату и потребовал себе обед. Едва он сел за стол, как перед ним очутилась незнакомая барышня, очень миловидная и приличная на вид, и, рассыпаясь в похвалах его таланту, преподнесла ему вышитый кошелек. Польщенный поэт искренне поблагодарил ее, после обеда же сел опять в коляску и покатил далее. Но не отъехал он еще за черту деревни, как его нагнал верховой и остановил экипаж.
— В чем дело? — спросил Пушкин.
— Да ваша милость изволили забыть отдать 10 рублей за кошелек, что купили у барышни, — был ответ.
Пушкин расхохотался и отдал деньги. После он часто рассказывал об этом случае охлаждения его авторского самолюбия.
Как мы уже упомянули, предчувствие близкой смерти явственно тяготило Пушкина на последней лицейской годовщине 1836 года. Еще в апреле того же года, сам отвезя тело умершей матери своей в Псковскую губернию, в Святогорский монастырь, он купил там место и для себя, рядом с ее могилой, и был все время крайне расстроен. Тем же предчувствием смерти веет от его стихотворения, написанного в июне 1834 года:
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит,
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия; а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить… И глядь — как раз умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.
С вечера 27 января 1837 года по Петербургу сперва смутно, а затем все настоятельнее начал распространяться невероятный, ужасный слух: что Пушкин, великий Пушкин, которого все знали в полном цвете сил, от которого ожидали для родной литературы еще так много, смертельно ранен, что ему остается жить только несколько дней, может быть — несколько часов! Со всех концов столицы и знакомые и незнакомые наперерыв присылали справляться о положении больного. От императора Николая Павловича прискакал еще в полночь к ходившему за умирающим лейб-медику Арендту фельдъегерь с собственноручной запиской, которую Арендт должен был прочесть поэту:
"Если Бог не приведет нам свидеться в здешнем свете, — писал государь, — посылаю тебе мое прощение и последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся: я беру их на свои руки".
— Я не лягу, буду ждать, — приказал государь словесно передать Арендту.
"Какой трогательный конец земной связи между царем и тем, кого он когда-то отечески присвоил и кого до последней минуты не покинул! — писал потом Жуковский к отцу Пушкина. — Как много прекрасного, человеческого в этом порыве, в этой поспешности захватить душу Пушкина на отлете, очистить ее для будущей жизни и ободрить последним земным утешением. "Я не лягу, я буду ждать".
За несколько часов до кончины Пушкина государь вызвал к себе во дворец Жуковского, чтобы выслушать от него подробности о ходе болезни, и повторил ему то же, что сказал ранее в записке: чтобы Пушкин не беспокоился о судьбе жены и детей.
— Они мои! — заключил он.
— Вот я как утешен! — сказал Пушкин, судорожно поднимая к небу руки, когда выслушал от Жуковского обещание государя. — Скажи государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования… что желаю ему счастья в его сыне… что я желаю ему счастья в его России…
И как истинно по-царски Николай Павлович сдержал свое слово! Не только с имения Пушкина был снят весь казенный долг, но вдове его была назначена пожизненная пенсия в 5 000 рублей, детям в 6 000 рублей, и, кроме того, на издание сочинений поэта было пожаловано 50 000 рублей.
В последние минуты мысли умирающего возвратились еще раз к его светлой юности, к Царскому Селу.
— Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского! — сказал он со вздохом единственному из бывших при нем лицейских товарищей, Данзасу.
Пуля осталась невынутою; каждая минута неизбежно приближала его к концу.
— Смерть идет… — вдруг промолвил он и затем отрывисто прибавил: — Карамзину!
Было тотчас послано за Екатериной Андреевной Карамзиной, которая, сохраняя к поэту со времен Царского Села теплое материнское чувство, не замедлила прибыть.
— Перекрестите меня! — попросил он ее и поцеловал благословляющую его руку.
Перед наступлением предсмертной агонии он еще раз приласкал жену и затем впал в забытье.
"Друзья, ближние молча окружили изголовье отходящего (рассказывает писатель Даль); я, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше. Он вдруг будто проснулся, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал:
— Кончена жизнь!
Я недослышал и спросил тихо:
— Что кончено?
— Жизнь кончена… — отвечал он внятно и положительно. — Тяжело дышать, давит… — были последние слова его.
Всеместное спокойствие разлилось по всему телу; отрывистое, частое дыхание изменилось в более и более медленное, тихое, протяжное; еще один слабый, едва заметный вздох — и пропасть необъятная, неизмеримая разделила живых от мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его…"
Когда узнали в городе, что поэта не стало, квартира его сделалась местом паломничества, к которому в продолжение двух дней отовсюду стекались люди всех званий и состояний, чтобы в последний раз поклониться дорогому праху, взять на память от него хоть лоскуток сюртука, клок волос. Наиболее горячие почитательницы поэта предусмотрительно запаслись даже ножницами; и к концу второго дня длинный сюртук усопшего обратился как бы в куртку, а волосы на голове и бакенбарды оказались остриженными крайне неровно. Чтобы при входе и выходе посетителей наблюдать хотя известную очередь, пришлось поставить полицию; во избежание же чрезмерного скопления публики на похоронах отпевание, назначенное было в Исаакиевском соборе под утро, в 3-м часу ночи, было внезапно отменено, и тогда же тело было перенесено в Конюшенную церковь. Но это ни к чему не повело. Ко времени отпевания вся площадь перед церковью, весь Невский проспект вплоть до Аничкова моста были запружены народом, а в самой церкви, куда впускали не иначе как по билетам, была страшная давка.
Когда после отпевания гроб подняли, вынесли из церкви, поставили на катафалк, когда сквозь море голов шаг за шагом двинулась погребальная колесница с бесчисленной вереницей карет, — вдруг все разом запнулось: несколько человек наклонилось над высоким мужчиной, который в истерических рыданиях упал посреди дороги. То был один из друзей покойного, такой же поэт — князь Вяземский.
Вечером того же дня саксонский посланник Люцероде, у которого назначен был бал, объявил съехавшимся гостям:
— Нынче были похороны Пушкина: у меня не будут танцевать.
Отвезти тело усопшего на место последнего успокоения — в Святогорский монастырь — взялся верный покровитель его с детства, Александр Иванович Тургенев, которому, таким образом, выпало на долю устроить и первую, и последнюю участь поэта.
Взрыв негодования, озлобления против убийцы народного гения был, понятно, всеобщий. Но ни у кого не поднялась на него рука, когда стала известной предсмертная воля Пушкина, настоятельно выраженная им Данзасу:
— Требую, чтоб ты не мстил за мою смерть: прощаю ему и хочу умереть христианином.
Какое впечатление произвела смерть поэта на отца его и брата, видно из письма Сергея Львовича по поводу присланного ему князем Вяземским портрета сына в гробу, на который старик отец не мог решиться взглянуть.