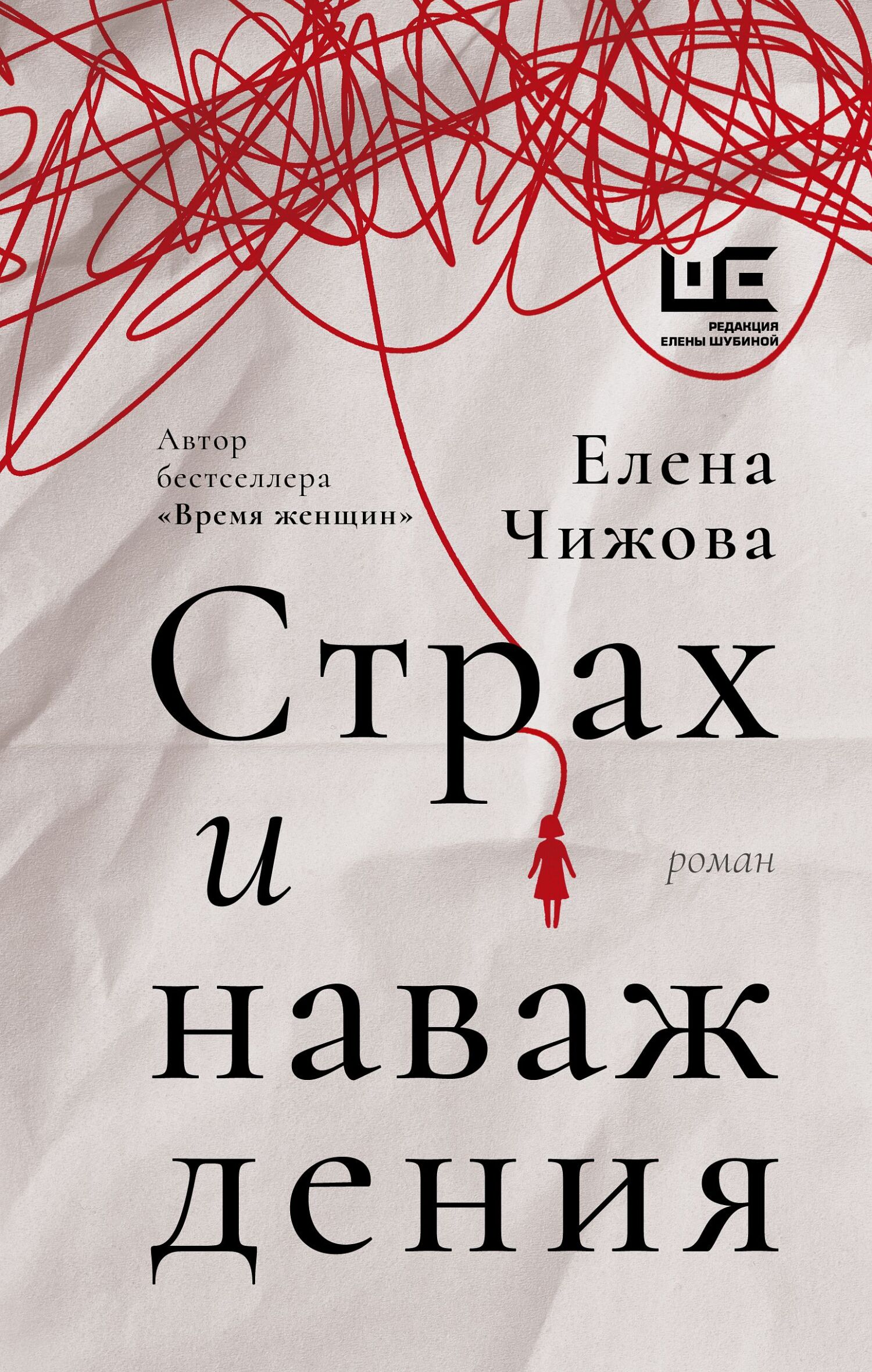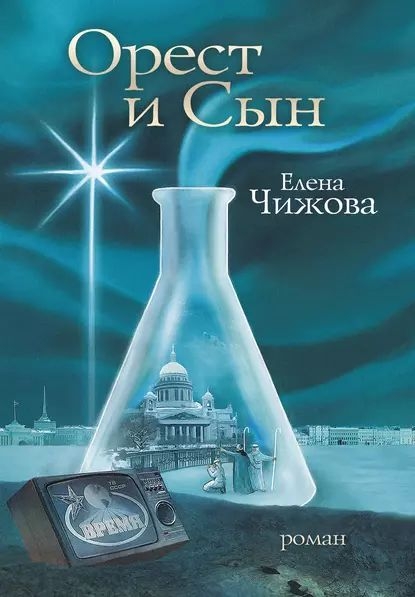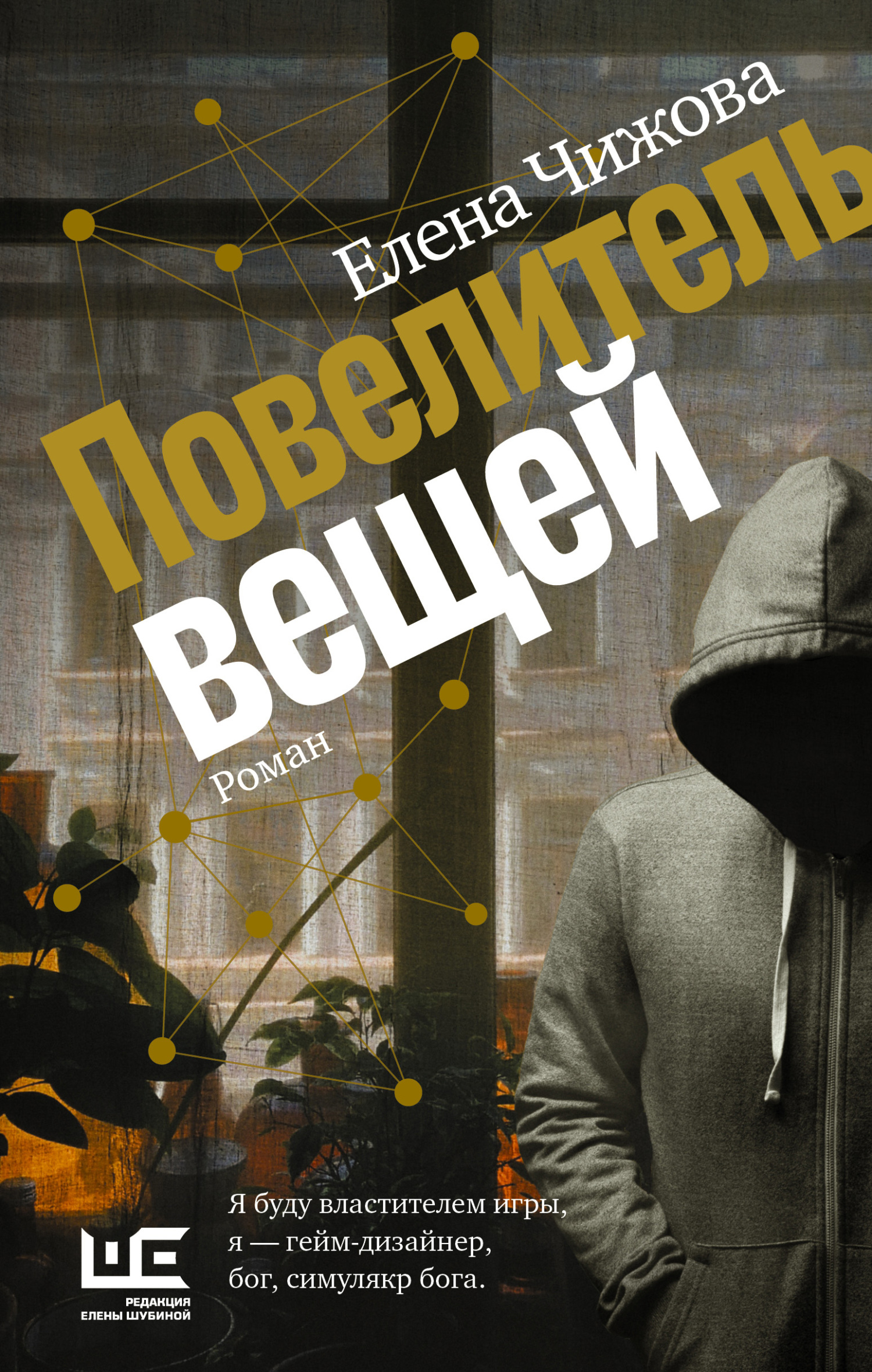во все углы; утешать себя: куда она, дескать, денется, погуляет и вернется…
Кажется, стучат в дверь.
Мария догадывается – впрочем, и по стуку понятно – это он, помреж, явился, чтобы приставать с дурацкими замечаниями, тыкать ей в нос своей убогой тетрадкой; при Главном ходил на цыпочках, тише воды ниже травы, удивительно, как же быстро он освоился, захватил власть. Мария прислушивается: ушел? Или затаился, ждет, что она не выдержит и откроет… Вроде бы ушел. Не иначе, жаловаться директору. Собрав с кулак задубелые кисточки на манер маленького аккуратного букета, Мария оглядывается, словно ищет, куда бы пристроить.
В гримерке, которую она много лет делила с говорливой Надеждой, нет ни одной свободной вазы, те, что есть, заняты сухими букетами. Куда, скажите на милость, прикажете ставить живые, свежие, которыми ее завалят благодарные зрители? Надо позвонить, сказать, чтобы принесли подходящую емкость, хотя бы ведро.
Да не это, грязное, – стараясь не выплеснуть накопившееся раздражение, Мария, в этой мизансцене она, ведущая актриса, подает реплики, не глядя на нерасторопную, хуже того, недогадливую партнершу, – сходите в кладовую, принесите чистое… Господи, да куда угодно, только не на пол… Цветы на полу – плохая примета. Нет, не на подоконник… Сюда – свободной рукой Мария указывает на пустой гримерный столик, за которым сидела Надежда. – Ну и пусть обижается. Она уехала, улетела и больше не вернется…
Заперев дверь за уборщицей, Мария останавливается перед зеркалом, висящим в простенке у самой двери. Высокое, ростовое; Наденька говорила: перед выходом на сцену надо непременно в него глянуть.
Из глубины зазеркалья на нее смотрит женщина, похожая на пациентку Мариинской больницы: темно-синий, в мелкую клетку, застиранный халат, на ногах стоптанные тапки – сценический костюм, Мария не помнит, когда она успела переодеться. Женщина брезгливо поводит носом – повторяя за ней, Мария невольно морщится: старый фланелевый халат – реквизит из театральной кладовой, из подбора – ощутимо припахивает духами, такими же приторными и тошнотворными, как духи ее матери…
Краем слезящегося от усталости глаза – все его внимание поглощено рычагами, регулирующими соотношение дозированного (им же самим) света и самой что ни на есть кромешной тьмы, – световик отмечает нечто странное, выходящее за рамки предварительных договоренностей: на слабо освещенный задник – холст с искусно нанесенным на него изображением, скорее намечающим, нежели конкретизирующим место действия, – откуда-то сбоку, из правого верхнего угла, наползает серая полупрозрачная тень. С этим надо что-то делать. Для начала – бог склоняется над электрическим пультом – убрать боковую подсветку. Отточенным движением, почти что на автомате, он передергивает рычаги. Тень, похожая на таракана, скукоживается; серое пятно (пятно на его, бога, профессиональной репутации!) нехотя уползает за колосники. Устранив допущенный по его вине непорядок, театральный бог коротко и облегченно выдыхает, откидывается в кресле: от ошибок никто, даже он, не застрахован, важно вовремя вмешаться, предупредить пагубные последствия.
Белый шум затих. В динамике, висящем под потолком ее гримерки, звенящая тишина; такая же пугающе звонкая тишина стоит в опустелом полуосвещенном коридоре, когда она, напоследок оглядев себя в высоком ростовом зеркале, идет, стараясь не прихрамывать, бормоча отдельные бессвязные реплики, из которых, если строго придерживаться рисунка роли, должен вылупиться – как цыпленок из яйца – ее долгожданный оглушительный триумф. Вся в нервном предвкушении и трепете, она подходит к дерматиновой двери с табличкой: «Выход на сцену». Заперто. Ошиблась дверью?.. А если и так, ничего страшного, она – ведущая актриса, без нее не начнут. На мгновение ей представляется: за сценой вскипает паника; помреж, потрясая исписанной тетрадкой, верещит придушенным голосом: заснула она, что ли?!
Спектакль на грани срыва. Тишина, аналог коричневого шума, мало-помалу преобразуется: змеиный шип вперемешку с рваными, негодующими аплодисментами; знатоки, записные театралы, не скрывают раздражения, разумеется, их можно понять: при прежнем Главном такого не случалось; задержка – ладно бы минут на десять, – но чтобы на полчаса?!
– Что-то мне не по себе, – бывшая девочка Наташа (в одной руке у нее программка, в другой – скомканный бумажный платочек) склоняется к интеллигентной соседке, тоже Наташе. – А вдруг там, за сценой, кто-нибудь умер?..
– Не поверите! Сижу и думаю: а вдруг там кто-нибудь умер…
– Полагаете, отменят? Или найдут замену?
Другая Наташа не торопится с ответом: в детстве она не раз слышала, что незаменимых у нас нет; с другой стороны, по собственному опыту она знает: процесс замены требует времени. Совещания, согласования, бумаги на подпись. Поразмыслив, она выбирает компромиссный вариант.
– Смотря кому. Одно дело, кто-то из массовки. Скажем, Четвертая подруга. А представьте, сама героиня.
Дверь с табличкой «Выход на сцену» внезапно распахивается. Несколько торопливых шагов по лесенке – и вот Мария уже в кармане. С того места, где она сейчас стоит, все предстает в ином, словно бы смещенном, свете. Искусно прорисованный задник, призванный обозначить место событий, целенаправленно (такова задумка оформителя) искажает действительность: предметы, изображенные на холсте, вытянуты, их реальные пропорции не соблюдены; обвисающий под собственной непомерной тяжестью холст (из зрительного зала он видится сплошным и плотным) зияет многочисленными прорехами, будто его погрызли мыши. С решетчатых колосников (невидимых из зала, даже с самых первых рядов, что уж говорить о галерке) свисают толстые, в пол ее руки, витые канаты – колышутся, как чердачные веревки на сквозняке. Превозмогая себя (стоит выйти на сцену, и все устаканится), Мария идет вперед, больше не помышляя о растянутых связках.
В шаге от края рампы она готовится начать монолог. Монолог матери – в защиту сына. Ужас в том, что она забыла слова. Слова, затверженные на репетициях (впрочем, Мария не помнит, были ли репетиции), порскают в разные стороны – поводя кривыми коротенькими усиками, карабкаются вверх по холсту; собираются в наплывах тяжелых складок. Холст усеян мышиными прорехами. Словно наяву Мария слышит укоризненный голос сына: «Мышей проехали. Следующая остановка – тараканы…» Вот, оказывается, что имелось в виду… Почему – почему она не поняла его раньше?
Запоздалое раскаяние заставляет ее собраться с разбегающимися мыслями: ее мальчик не виноват, его принудили, заставили – обращаясь к притихшему в напряженном ожидании залу, Мария протягивает дрожащие от горя и печали руки: разве непонятно, они – Мария вспоминает неизвестного ей Мишаню – наши общие дети, это же так просто, надо только… только…
Еще одно усилие, и слова вернутся, выстроятся в ровную линию.
Но, вопреки обыкновению, известному даже самому неопытному актеру, театрального чуда не случается: быть может, здесь чья-то злонамеренность – с целью сбить ее с толку, вытолкнуть из рисунка роли, точно зеленую, «необстрелянную» лыжницу из