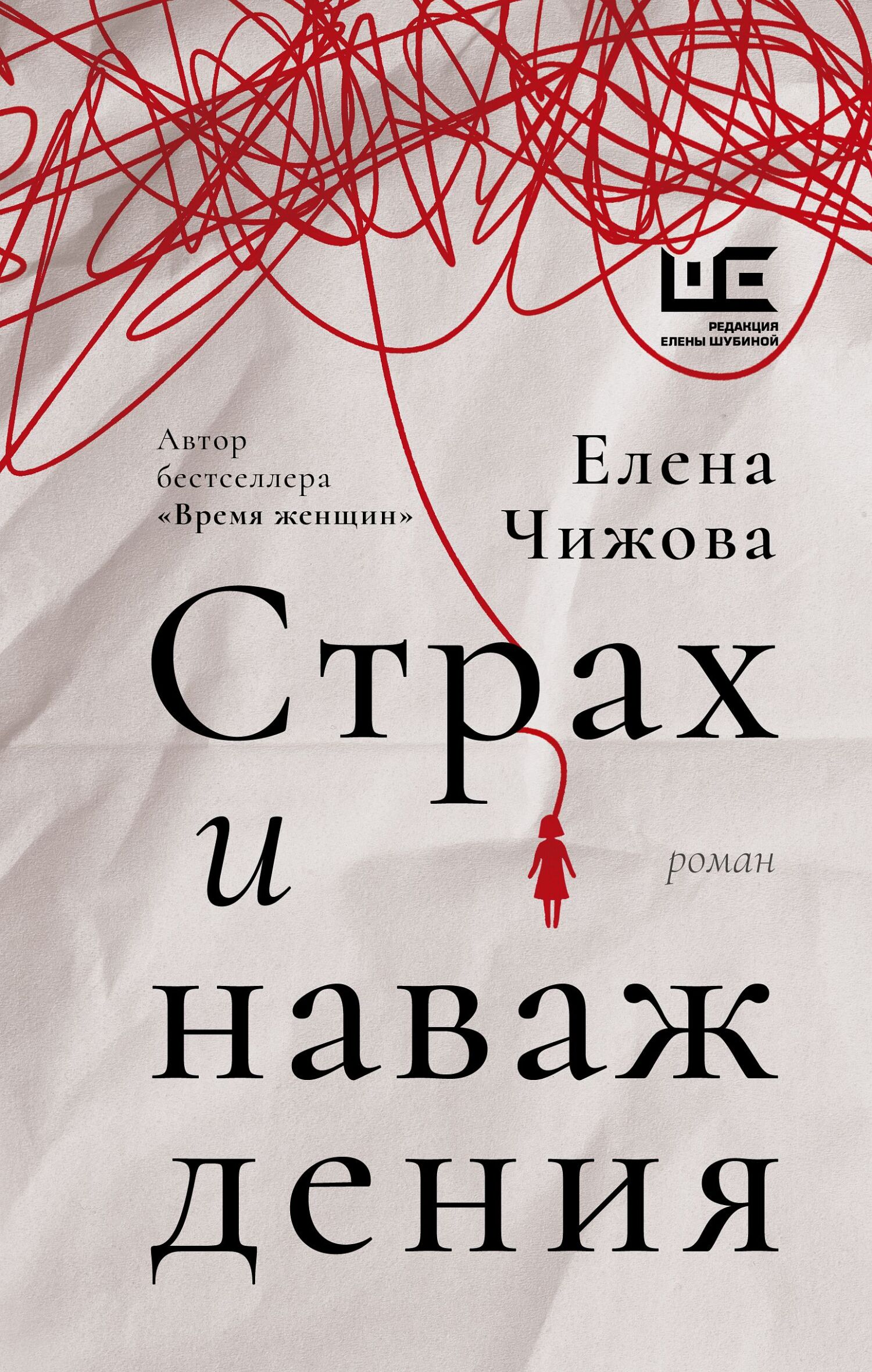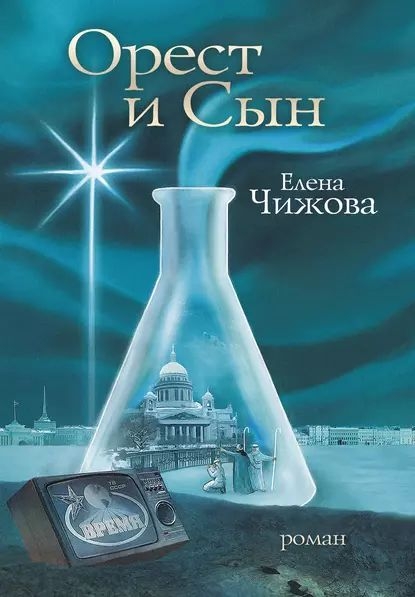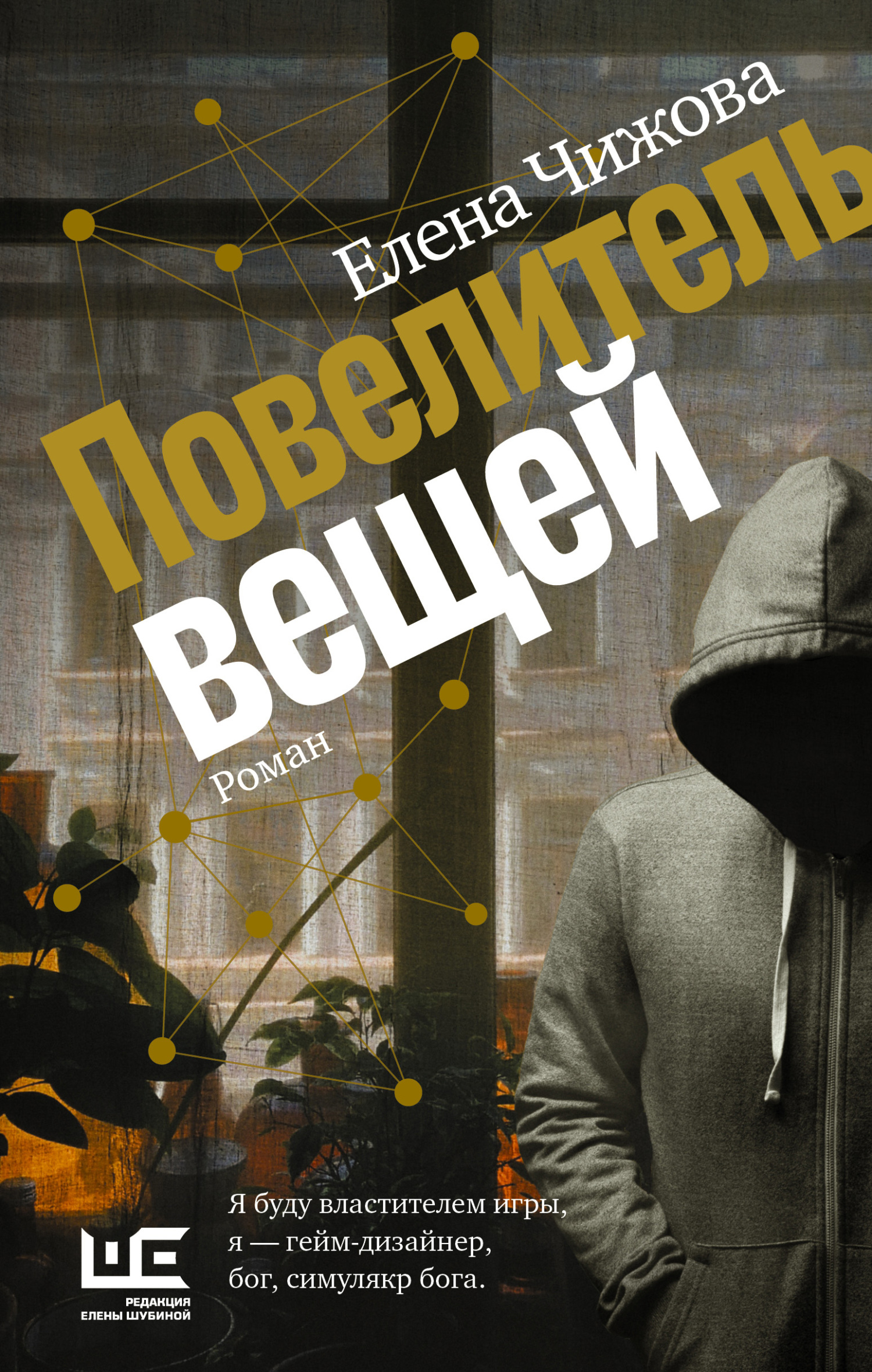проложенной в глубоком снегу колеи.
Между тем искаженная действительность и не думает устаканиваться; Мария в страхе оборачивается и видит: предметы, изображенные на холсте, накрывает густая серая тень. Не надо особенно вглядываться, чтобы опознать Полупрозрачного Господина. Как бы маскируя собой все условные искажения и смещения, его тень растекается по заднику сплошным чернильным пятном.
Черный цвет силен. Луч света слишком слаб, чтобы согнать его со сцены – туда, куда, прикинувшись его ожившими мелкими сородичами, дали деру ее, исполненные печали и гнева, слова. Им не вырваться, не взлететь, не разомкнуть цепей дремоты, туманящей сознание.
Останься я в живых, я поняла бы это раньше…
Уловив шаркающие шаги за спиной, Мария судорожно оглядывается: ее партнеры, взявшись за руки, выстраиваются в одну линию. Возможно, такова задумка помрежа, назначенного на место Главного, но как же так вышло, что ее, исполнительницу главной роли, не удосужились поставить в известность? Не предупредили, что у пьесы, в которой она занята (куда ее ввели вместо улетевшей, исчезнувшей, канувшей в нетях ведущей актрисы), совсем другой финал.
Для видимости отдав поклоны, актеры один за другим покидают сцену, стараясь не привлекать к себе внимания, – излишняя предосторожность: никто на них не смотрит, взгляды зрителей прикованы к заднику. Последним, пряча глаза, уходит записной балагур Василий Палыч. Жестом последней надежды и отчаяния Мария складывает ладони. Щурясь от бьющего прямо ей в глаза света, она устремляет взгляд к его первоисточнику – к поднятой высоко над зрительным залом кабинке световика. Может быть, световик наконец опомнится, придет ей на помощь – кому как не ему помнить световую партитуру спектакля! А вдруг – Мария отводит слезящиеся, затуманенные сонной влагой глаза, – вдруг он тоже забыл?.. Пусть, пусть он сделает хоть что-нибудь, что-нибудь, что найдет нужным, на худой конец, полное затемнение – уж лучше тьма, сплошная, кромешная, нежели этот бессильный, дрожащий от горя и печали луч.
Господи, умер он, что ли?!
Запахивая свой старый, рваный под мышками домашний халат, Мария подходит к окну. Наполовину открывает фрамугу: оконный механизм вяло сопротивляется, словно проверяет, хватит ли у нее на это сил. Внизу, прямо под ее окнами шелестит дубовая рощица, посаженная руками сына, его маленькими детскими ручками – разве не чудо, что проросшие желуди не погибли, они выжили, пробились сквозь серый, изъезженный автомобильными шинами асфальт. Мокрые следы от покрышек ведут в ближайшую подворотню – с четвертого этажа не разглядеть, что там притаилась за тень.
Никогда не знаешь, откуда Полупрозрачный Господин появится, чтобы и дальше следить за нею, пронзать двояковыпуклыми глазами-линзами, изготовленными на знаменитом ленинградском предприятии, где трудились наши покойные родители – гордые тем, что работают на благо своей великой страны, на ее «оборонку».
Ничего, – Мария подбадривает себя, – дубовые листья все укроют. Ведь как удачно все сложилось: на дворе осень, пора листопада. Ее чуткие ноздри улавливают аромат горелых листьев. Тонкие лучи дыма, уходя в небо, струятся над тлеющими кострами – новые дубовые прутики, вырастающие взамен погибших. Оседая на дне ее сознания, тлеющий аромат листьев смешивается с тошнотворной, всепроникающей вонью горелой плоти – еще мгновение, и ее вырвет. Подавив желудочный спазм, Мария распахивает тугую неподатливую створку: ей нет дела до того, что будет потом, когда костры, разложенные там, внизу, прогорят.
Мне жаль, что этим закончилось. Она могла стать моей новой героиней. Пришла бы на смену той, что меня предала.
Подгоняемые естественным желанием как можно скорей добраться до дома, зрители устремились в гардероб, держа наготове прямоугольные, напоминающие посадочные талоны номерки.
По отдельным репликам, которыми они обменивались, нельзя было понять, осознают ли они, что в действительности случилось с Несчастной матерью, – или вовсе о ней забыли, оставив ее незавидную судьбу на совести режиссера, чья некогда громкая фамилия больше не значится в афише.
Прислушиваясь к их пустой болтовне, я испытывала горькое чувство: как молоко, забытое в холодильнике, впитывает посторонние запахи, оно вобрало горечь потерь и поражений – мой новый опыт существования, для описания которого мне не подобрать подходящих слов.
Они говорили о такси (вечером машину ждать недолго), о том, что, придя домой, надо выгулять собаку (ты помнишь, сегодня твоя очередь) или покормить кошку – всё лучше, чем переливать из пустого в порожнее то, что от нас, рядовых зрителей, нисколько не зависит (последнее время мы с мужем стараемся не читать новости, а то совсем крыша съедет), – но, оказавшись перед стеклянной дверью, внезапно, как по команде, замолкали и с преувеличенной вежливостью – мы-де люди воспитанные, не какие-нибудь, варвары и вандалы – пропускали друг друга вперед.
Так себе тактика. Тем удивительней, что она давала свои плоды. Я чувствовала, что меня отпускает: к добру или к худу, представление окончено – с этой утешительной мыслью я попыталась встать, чтобы влиться в общий поток зрителей, покидающих наш маленький самодеятельный театр, но что-то меня удерживало. Я пошевелила пальцами – и поняла: мои руки пристегнуты к подлокотникам.
Сохраняя внешнюю невозмутимость, я попробовала их выдернуть. Для начала хотя бы левую, казалось, она пристегнута слабее. Но сделала только хуже: чем сильнее дергала, тем крепче сковывались запястья. В своем роде, эффект наручников.
Не скажу, что меня это поразило: глупо впадать в отчаяние, тем более по такому ничтожному поводу, с которым справится любая стюардесса. Надо повременить, дождаться, пока очередь рассосется. Сколько бы это ни продлилось…
Не поразило, но вернуло к действительности.
Стараясь не шевелить пальцами, я выглянула в проход и обнаружила, что ожидание продлится недолго. Отстояв живую очередь, мои попутчики покидали самолет, не торопясь, но и не медля, как покидают временное, не слишком надежное пристанище. Последней шла кудрявая женщина – мать военнообязанного парня; за время долгого перелета ее светлые кудри успели поседеть.
Поравнявшись со стюардессой, она остановилась и знакомым мне коротким, нервным движением откинула волосы со лба. То, что я, положившись на память, приняла за укоренившуюся привычку, оказалось простой необходимостью: медицинской процедурой, предписанной местными законами. Это выяснилось, когда стюардесса поднесла к ее лбу бесконтактный термометр; в просторечии «пистолет». Такими – во времена особенно яростных вспышек ковида – оперировали охранники общественных пространств и заведений, выявляя температурящих больных.
Не выявив опасности, стюардесса отложила «пистолет» – до следующей проверки, кстати сказать, довольно странной: по логике вещей, проверки следует делать на входе. Мысленно пожав плечами, я объяснила это недомыслием здешних чиновников, установивших свои, особые правила…
Прежде чем переступить границу распахнутого люка, кудрявая женщина обернулась. Мы встретились глазами. В ее глазах, затуманенных