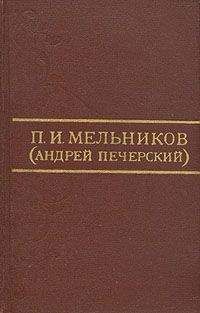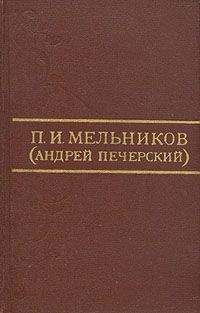— Кого же? Марьюшку? — быстро вскинув смеющимися глазами, спросила Фленушка.
— Нет… Келейничать и клиросом править Марью успех не возьмет, — сказала Манефа. — Попрошу Виринеюшку, отдала бы мне в келейницы свою Евдокею. Ты в ключах будешь, а она в келье прибирать да за мной ходить.
— И самое бы хорошее дело, матушка, — улыбаясь не то лукаво, не то весело, молвила Фленушка. — Эка подумаешь, каким тебя господь разумом-то одарил!.. Какая ты по домоводству-то искусная!.. Любую из матерей возьми — целу бы неделю продумала, как бы уладить, а ты гляди-ка, матушка только вздумала, и как раз делу свершенье!.. Дивиться надо тебе!..
— Так вот что, — слегка улыбнувшись, перебила Манефа. — Так делу быть: Евдокею ко мне в келью, Устинью в дорогу… На другой день праздника мы ее и отправим.
— С Петром Степанычем, что ли, пошлешь? — глядя в окошко, спросила игуменью Фленушка.
— Одну надо будет отправить, — ответила Манефа. — Дементий до городу довезет и там на пароход ее посадит… А Петру Степанычу отсюдова в Рыбинск надобно… Да и как с ним одну девицу послать? Нельзя, осудить могут… Хоть ничего и не случится, а все-таки слава на обитель пойдет… Да вот еще что, сбери-ка ты все работы, какие у вас есть наготове: бисерные, канвовые, золотошвейные… Надо Самоквасовым выбрать и Панкову, да вот еще Марко Данилыч с дочкой приедут, их тоже надо будет дарить… Да покаместь ни Устинье, ни другому кому не сказывай, про что мы с тобой говорили… Отведя праздник, вдруг распорядимся — меньше бы разговоров было да пересудов.
Скромно вышла Фленушка из Манефиной кельи, степенно прошла по сенным переходам. Но только что завернула за угол, как припустит что есть мочи и летом влетела в свою горницу. Там у окна, пригорюнясь, сидела Марья головщица.
Подперла Фленушка бок левой рукой, звонко защелкала пальцами правой и пошла плясать перед Марьюшкой, весело припевая:
Таки выпросила,
Таки выпросила!
Ой ты, любчик, голубчик ты мой,
Ты сухой ли, немазаный мой,
Полюби-ка меня, девушку!
Хочешь любишь, хочешь нет-
Ни копейки денег нет!
Таки выпросила,
Таки выпросила!
И, схватив Марьюшку за плечи, стала ее тормошить что есть мочи.
— Устюшку в Казань! — вскрикнула она. — Не будет помехи… Состряпаем свадьбу уходом!..
— Взбеленилась, что ль ты, бешеная?.. — сказала головщица. — Услышать ведь могут!
— А пусть их слышат! Наплевать! — крикнула Фленушка.
И, подсев к Марьюшке, стала шептать ей на ухо:
— Наших-то кстати сюда принесло… Я их за бока… Завтра ж пусть едут к попу уговариваться… Нам с тобой в скиту век свековать — так хоть на чужую свадебку полюбуемся!.. Аль не свенчать ли заодно и тебя с черномазым саратовцем?
— Полно городить-то! — с кислой улыбкой промолвила Марьюшка и отвернулась к окну.
— А ты полно губу-то кверху драть!.. Слушай, да ни гу-гу — слова не вырони…— говорила Фленушка. — Устинью на другой день праздника в Казань. Васенька в Шарпан не поедет — велим захворать ему, Параша тоже дома останется… Только матушка со двора, мы их к попу… Пируй, Маруха!..
Загуляем, закурим.
Запируем, закутим!
— Задаст вам пиры Патап-от Максимыч! — ворчала Марьюшка. — У него запляшешь!
— А плевать мне на твоего Патапа!.. — вскрикнула Фленушка, и страстной отвагой заискрились глаза ее. — Хоть голову с плеч, только б себя потешить!.. Что в самом деле?.. Живешь тут, живешь, киснешь, что опара в квашне… Удали места нет!.. Разгуляться не над чем!.. Самой счастья ввек не достанется, на чужое хочу поглядеть!.. Эх, Марьюшка, Марьюшка, не кровь в тебе ходит, сыворотка!..
— А матушка-то что скажет? — холодно промолвила головщица. — Ведь Параша-то племянница ей, поближе нас с тобой.
— Поближе!.. Да, поближе!.. — задумалась Фленушка. — Точно!.. Огорчит это матушку!..
И замолкла Фленушка… Села у стола и, опершись на него локтем, склонила голову.
— То-то, Флена Васильевна, — молвила Марьюшка. — Скора-то ты скора, ровно блоха скачешь, а тут и язычок прикусила… Подумай-ка, что будет тогда, как матушка про твои проказы проведает… А?
— А ничего! — с места вскочив, залихватски вскрикнула Фленушка. — Зачем ей знать?.. Не мы в ответе!.. Не мы к попу поедем, не мы и в церковь повезем!.. А сегодня вечерком туда!.. Знаешь?.. Наши приедут… Раздались в стене три удара молотком.
— Матушка! — вскликнула Фленушка и стремглав кинулась из горницы.
Когда Фленушка вошла в игуменьину келью, Манефа сидела с письмом в руках. Другое, распечатанное, лежало на столе.
— На-ка, Фленушка, садись да читай, голубка, — сказала Манефа, подавая ей письмо. — От Таифушки из Питера. Да пишет, ровно бисером нижет, мне не по глазам. Взяла письмо Фленушка.
— Осмушников Семен Иваныч из городу прислал, — продолжала Манефа. — Романушка к празднику за вином туда ездил, так с ним Семен-от Иваныч нарочно ко мне прислал… Письмо страховое… Таифушка особо писала Семену Иванычу, чтоб то письмо сколь возможно скорее с верным человеком до меня дослать. Полагаю, что письмо не пустяшное… Таифушка зря ничего не делает… Читай-ка… Фленушка стала читать:
— "Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас. Аминь. Радостей райских и преблаженныя жизни в горних искательнице, святопочивших, славных и добропобедных…
— Прекрати, — молвила Манефа, — прокинь похвалы… С дела начинай.
Фленушка долго искала конца «похвалам», произнося иные вполголоса:
— «Опасной хранительнице… ангельских сил… незыблемому адаманту… пречестной матушке…»
Манефа слегка хмурилась, но ничем другим не изъявила нетерпенья, что сильно овладело ею… Не в обычае выражать его хоть бы и самому близкому человеку…
А Фленушка все ищет конца «похвалам»… Насилу в самом конце первой страницы добралась до дела.
— "И приехавши в царствующий и первопрестольный град Москву, не доезжая заставы, пристала я, матушка, у известного вам христолюбца Сергея Митрофаныча, а от него, нимало не медля, отправилась на Рогожское и у матушки Пульхерии удостоилась быть… Зело вам, матушка, она кланяется и весьма советует принять владимирского архиепископа. А он уж и поставлен от митрополита. Был прежде казначеем на Преображенском Андрей Ларивоныч, по прозванию Шутов, ленточного цеха цеховой, а ныне божиею милостью архиепископ Антоний владимирский и всея России…
— На Преображенском!.. Беспоповец!.. — сумрачно промолвила Манефа и потом, едва заметно усмехнувшись, процедила сквозь зубы: — «Всея России»… Ровно святейший патриарх!.. Ох, затейщики московские!..
Заметив, что Фленушка приостановилась, Манефа сухо ей молвила:
— Вычитывай дальше, вычитывай!.. Фленушка продолжала:
— «А была я, матушка, у пречестного отца Иоанна Матвеевича, и он, скорбен сый и кончине близяся, таковое ж заповедал: прияти власть духовную преосвященного архиепископа Антония…»
— Преосвященного! — чуть слышно промолвила Манефа. — Дальше читай, — громко сказала она.
— И по всем хорошим и богатым домам его весьма похваляют, и всей Москве то архипасторство приятно. А насчет нашей святыни, что ты мне препоручила, — всю ее в Москве до безмятежных времен на хранение предала: строгановских писем иконы да книг, филаретовский «Требник», «Маргарит» острожский, «Апостол» московский первопечатный…
— Читай, кому отдала. Перечень после прочтешь, — сказала Манефа.
— "Петру Спиридонычу, — прокинув несколько строк, продолжала Фленушка, — а кресты с мощами Одигитрию, остальные книги печатные и харатейные, пятнадцать счетом, Гусевым. И говорили они, что почли бы за великое божие благословение, если б из Шарпана на гонительное время к ним Казанску владычицу прислали, пуще бы зеницы стали беречь ее и жизни б скорее лишились, чем на такое многоценное сокровище еретическому глазу на един миг дали взглянуть. А еще уведомляю вас, матушка, что по всей Москве древлеправославные христиане весьма прискорбны остаются при находящих на жительство наше напастех и весьма опасны разорения старинных наших святых мест…
А приехавши в Питер, прямо к Дмитриеву каретнику прошла. Живет от машины неподалеку, и в тот же день вместе с ним к Дрябиным ездила, а вчерашний день, в пятницу сиречь, к Громовым на дачу ездила… И сведала я от них, матушка, для нашего жительства вести неполезные — вышло строгое приказанье: все наши обители порешить беспременно. И теперь в нашу пользу никто ничего сказать не может, ни за какие миллионы. Василий Федулыч Громов так и сказал: «Если б, говорит, таковых, как я, пятьдесят тысяч человек все свои имения отдали, чтоб тому делу препятствовать, и то бы, говорит, ничего не поделали».
А указ, сказывали, вышел такой же, как по Иргизу был: всех по ревизии к скитам неприписанных выслать по ихним местам и оттоль не выпускать никуда до скончанья их веку… Часовни и моленныя велено порушить, а хозяйства отнюдь не нарушать. Значит, и келья и все имущество, какое в них, — вольны будем взять с собой, кому куда следует по закону. Потому и думаю я, матушка, что не довлеет нам зело сокрушаться; наше при нас же останется… За сим, припадая к честным стопам вашим и прося святых молитв пред господом…"