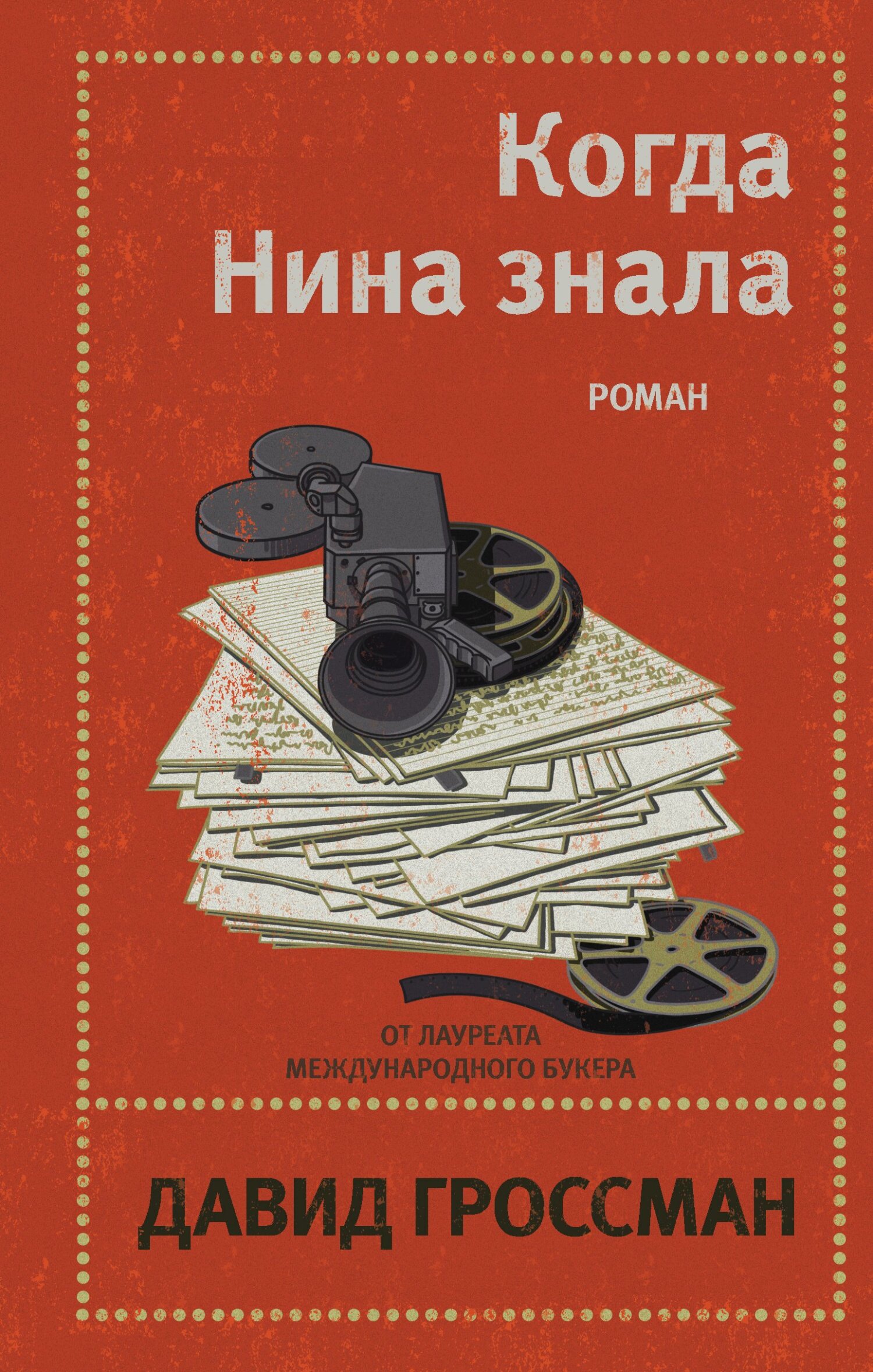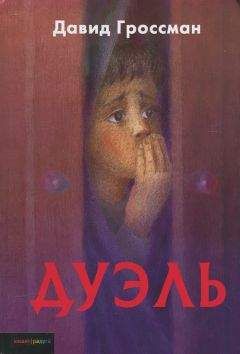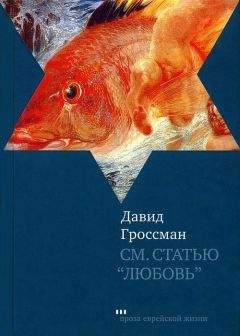и разочарованием, будто обнаружила, что под всеми моими чистоплюйскими слоями в моей крови течет предательство. Будто всегда она знала, что в решающую минуту я ее сдам.
А я вспоминаю про то, что она мне сказала, когда я была подростком: «Не позволь им исказить мою историю, обернув ее против меня».
Эта минута…
Как из этих черт, знакомых и любимых, вдруг складывается лицо чужака? Врага? Потому что мы на войне, я и бабушка Вера. Это ясно. И она предостерегает меня глазами, чтобы я не переходила за некую грань. За этой гранью – хаос. И человек человеку волк, и для внуков снисхождения нет. Но на сей раз я не уступаю, я смотрю ей прямо в глаза и вижу, как черты ее лица вытягиваются и заостряются, и это впервые с той минуты, как она начала свой рассказ, и, может, с тех пор, как я ее знаю, я чувствую, как ею овладевает паника.
Будто какая-то строптивая толика ее души, которая почти шестьдесят лет прожила в кандалах и с кляпом во рту, вырвалась из-под ее власти и вопит ей в мозг: «Что ты наделала, господи, Вера, что ты наделала?!»
«Полковник медицинской службы подошел к двери, что справа, и открыл ее, а там стоял тот, в черной кожанке, и я сзади получила удар по голове – кто стукнул, не знаю, и я пошла к тому, в кожанке, и он так крепко схватил меня за руку, – она обхватывает свою руку и показывает ее камере, – и я хочу, чтобы он отвез меня к Нине – рассказать ей, что случилось, и чтобы она несколько дней побыла у Йованки, а потом Йованка отвезет ее к моей сестре Мире или к моей сестре Рози…»
Она задохнулась. Попыталась заговорить и задохнулась снова. Сидела и глотала слезы.
«Но тот, в кожанке, сказал водителю: «Вези эту шкуру прямиком в тюрьму».
Она утонула в кресле, сидит, ссутулив плечи. «Ниночка моя нежная, – шепчет она камере, Нине-что-в-будущем, которая снова вдруг возникла. – Как я могу это подписать? Как я могу всем сказать, что твой папа был предателем?»
«Потому что он мертв, – отвечаю я, – а Нина жива».
«Милош не был предателем, Гили».
«Как ты могла, бабушка?»
«Любила его».
«Больше, чем любила свою дочку?»
«Больше, чем любила собственную жизнь».
Все, не могу. Я встаю, расхаживаю кругами по пустому лобби. Когда я останавливаюсь возле папы, он мне быстро шепчет: «Спроси ее, сделала ли бы она то же самое и сегодня».
Я возвращаюсь и сажусь напротив нее. Она наклоняется ко мне, прикрывает рот рукой и шепчет: «А сама-то ты разве не пыталась покончить жизнь самоубийством из-за мужчины?»
«Но я не убила никого другого».
Она отпрянула, будто я дала ей пощечину. Закурила еще одну сигарету и предложила сигарету папе. Мне – нет. Она приказала ему заканчивать съемку, и он подчинился. Ее пальцы дрожали. Что я ей учинила! Господи, если она признает, что сотворила, она раскрошится тут в кучу опилок. Рафаэль делится со мной сигаретой. Оба мы уже годы как не курим, со времени его инфаркта, но сейчас мы схватились за возможность опалить себе язык и нёбо.
«Я не врунья, – бормочет Вера сама себе из сигаретного дыма. – Не врунья. Я ни разу в жизни не соврала! Ну, может, один-единственный раз в жизни не сказала Нине всю правду, но это только ради ее же блага, чтобы она не… Смотрите, кто пришел! – кричит она и закашливается дымом, который окутывает нас троих. И машет рукой: – Привет, Нина, зайка, а мы вот туточки! С добрым утром, как спалось?»
Нина выскакивает из лифта в конце лобби. Растрепанная, малость не в фокусе, зевающая. «С каких это пор вы здесь?» Подозрительность пробуждается гораздо раньше ее самой, глаза сужаются.
«Да просто маленько пощелкали перед Голи, – по-дурацки лыбится Рафи. Выражение лица, которое просто его уродует. Мы все трое ухмыляемся от беспомощности. От нас несет ложью. – Бабушка рассказывала всякие байки перед тем, как поднимемся на остров».
«Ага». Ее ноздри раздуваются. Она в воздухе ловит и просеивает ситуацию, но сейчас еще слишком сонная, чтобы ее расшифровать. Берет сигарету из Вериной руки. «Но когда вы спустились? Я ничего не услышала. А тут кофе получить можно? Голова от виски трещит».
Мы с Рафи кидаемся к пустой стойке ресепшена, звоним в настольный колокольчик. Заспанный служащий говорит, что попытается что-нибудь сделать, но что, в общем-то, шансов мало, потому что кухня открывается только через час. Мы с Рафи стоим, облокачиваясь на стойку, смотрим оттуда на Веру, которая болтает с Ниной. «Что за виски?» – спрашивает Рафи. А я оставляю его вопрос без ответа. Нина что-то говорит, Вера смеется, откидывает голову назад и смеется.
«И я не успела ее спросить, сделала ли бы она и сегодня…»
«Заметил».
«Жаль, что ты не напомнил мне раньше».
«Ага».
«И ты знал, что так все было, да?»
«Как это так?»
«Что они дали ей право выбора».
«Да».
Он собирает все силы, чтобы не уклониться от моего взгляда.
«Так, в общем-то, ты знал, что Нину просто кинули».
«Что… Не понял».
«Что ее и кинули, и предали».
Это слово глубоко его пронзает.
«Понимаешь? Она не только что бросила свою дочку, она еще и предала ее, свою дочку, мою маму, предала ее».
«Да. Так оно и есть, – бормочет он. – Брошенная и преданная».
Обе окутаны дымом, который поднимается к висящей над ними лампочке. Вера делает короткие, частые затяжки. Нина курит медленно, с наслаждением. Обводит нас троих бесхитростным взглядом. Мы с Рафи сигналим ей, что с кофе проблема. Она делает знак: «Может, выйдем, поищем какую-нибудь кафешку на набережной». – Мы киваем: – «Давай». Она показывает: «Вот только докурю». Нина втягивает дым с удовольствием. Мы с Рафи и Вера едим ее глазами.
Все такая же странная, с этой своей неуловимостью.
Она здесь и не здесь. Ты ее видишь, но и о ней вспоминаешь.
Во вторник или в среду, а то через неделю, кто разберет, кто может такое запомнить, ее забирает новая надзирательница. Тянет ее за собой на веревке, и ходьба с ней почти терпима. Без столкновений и без падений, будто обе научились двигаться согласованно. Судя по голосу, та совсем молодая, а судя по произношению, тягучему, смешному, она из Монтенегро. Трудно поверить, до чего она болтлива. Она уже прошла перевоспитание. Прошла все его стадии. Начала, как Вера, с «бойкотируемых», таких, которых все игнорируют и которых за