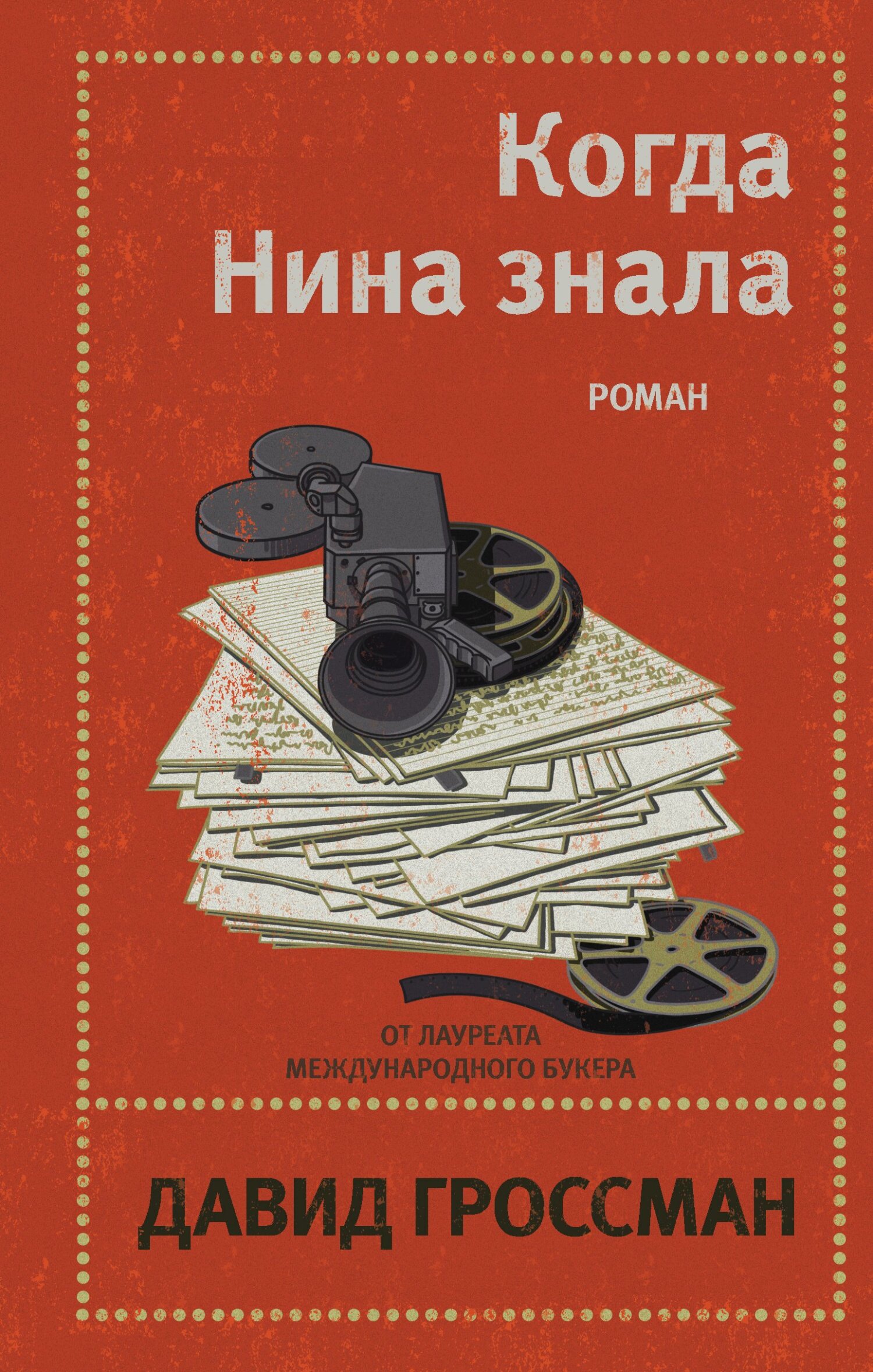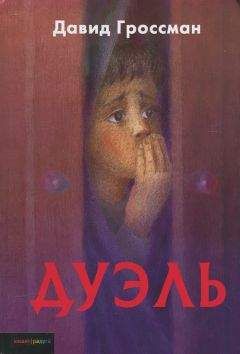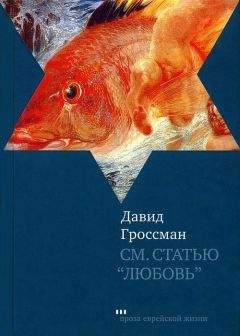для себя.
«Тогда давай. – Я наклоняюсь к ней и медленно глажу ей руку – наша семейная рэйки [40]. – Скажи мне, что точно они тебе сказали».
«Сейчас это так важно? Сказали!»
«Да, это важно. Это важнее всего».
«Ну так спрашивай».
«Что случилось в той комнате?»
«Что там было? Давай поглядим… Было, что он, высокий офицер с лысиной, мне сказал, и я помню каждое его слово: «Мы говорим с вами начистоту, госпожа. Так как сам ваш муж на допросах не произнес ни слова, ни в чем не сознался, значит, за ним никакой вины нет, и вы можете потребовать его пенсию для себя и для дочери, но это лишь в том случае, что вы нам подписываете бумаги».
Я в ответ: «Вы хотите, чтобы я вместо него сказала, что он – предатель?» Он говорит: «Да». И я говорю: «И что будет еще?» Он: «Ничего. Только то, что завтра в «Борбе» и еще двух-трех газетах появятся статьи, что Вера Новак отказалась от врага народа, от предателя Милоша Новака».
«И они видят, что я молчу, и полковник из адвокатуры говорит: «Новак Вера, здесь, в этой комнате, имеются две двери. Одна, та, что слева, – на свободу, вы идете домой к своей дочери. А другая, та, что справа, – в концлагерь на Голи-Оток, на много лет, на каторжные работы. Для решения у вас три минуты».
А я… мой мозг мертв. Все тело неживое. Уколи меня иголкой, Гили, и я не почувствую. Умер Милош. Умерла моя большая любовь. Чего мне еще хотеть?»
Она ищет в сумочке сигарету. Вытаскивает мятую пачку «Европы». Я уже многие годы не видела, чтобы она курила. Я думаю о маленькой Нине. Которая в тот утренний час, наверное, уже пришла к Йованке.
«И тогда полковник медицинской службы говорит: «Может быть, вы не поняли. Может быть, вы хотите попить воды и подумать получше?»
«Ничего я не хочу, только умереть». Ей не удается зажечь сигарету, и я ей помогаю.
«Послушайте, Новак, еще раз говорю: мы играем с открытыми картами. Из оборонных соображений мы не хотим афишировать тот факт, что он умер у нас. Его похоронят в анонимной могиле. Когда вы поставите свою подпись, вы возьмете дочь и уедете с ней в другой город. Вам нужно просто черкануть здесь, на бумаге, маленькую закорюку, и после этого вы будете про это молчать всю вашу жизнь. Даже собственной дочери не скажете ничего. Итак, у вас на раздумья две минуты».
«Да подпиши же наконец!» – вдруг слышу я себя, как рычу голосом призрака. Рафаэль испугался, но Вера так погружена в свой рассказ, что, видимо, меня не услышала.
«Я им сказала: «Мне не нужны ни две минуты, ни полминуты. Я от своего мужа не отрекаюсь. Мой муж, я его любила больше жизни. Мой муж никогда не был врагом народа. Делайте, что считаете нужным». Она стряхивает пепел на закрытую пачку сигарет.
«И тогда второй полковник, невысокий, сказал: «Коли так, вы уже завтра уплываете на корабле на Голи-Оток. Вам известно, что такое Голи-Оток?»
«Известно».
И он сказал: «Нина, ваша дочка, остается на улице».
«Это ваше решение», – сказала я.
А он: «Нет, решение только ваше».
Я ему сказала: «Я очень вас прошу, добрые люди, Нина никак с этим не связана, Нина может пойти к моей сестре Мире, или к моей сестре Рози, или к моей подруге Йованке. Ее не обязательно выбрасывать на улицу».
И полковник повторил: «Выслушай меня внимательно, женщина. Ты отправляешься на Голи-Оток, на каторгу, а Нина, твоя маленькая и хорошенькая дочка, останется на улице, и даю тебе слово, улица есть улица».
Вера кладет руку себе на грудь.
«Бабушка, хочешь, мы передохнем?»
«Нет, я хочу досказать».
В процессе моей далеко не блестящей карьеры я работала и в качестве исследовательницы материала для довольно большого количества документальных фильмов. Я снова и снова видела интервьюируемых, как они стоят перед этой дилеммой: открыть ли им темную тайну своей жизни или навек сокрыться во лжи. Поразительно, как много было таких, что решили открыть свою тайну, – в основном людей на предсмертном одре, – только потому, что они чувствовали: в каком-то месте мира правда должна сохраниться.
«Что ты хотела спросить, Гили?» – говорит Вера.
Я собираю все силы, которых у меня нет. «Скажи, бабушка, что значит «останется на улице»?»
«Не знаю».
«Ну все-таки, попытайся сказать».
«Я не знаю».
Я пробую в другом направлении: «Ты сказала, что попросила их не вмешивать в эти дела Нину?»
«Верно».
«Ты не думаешь, что, скажем, может, должна была попросить понастойчивей?»
«Я попросила, насколько смогла, это наибольшее, что я смогла».
«Да, но, может, если бы ты еще капельку…»
«Умолять я не умею».
Она сжимает губы. Отводит от меня глаза.
«Прости, пожалуйста, бабушка, но я обязана спросить. Ты когда-нибудь слышала про девочек, которых УДБА выбросила на улицу?»
«Нет».
«Ни об одной?»
«Не знаю. Может, что-то говорили про одну или про двух. Может, все это слухи. Это было время слухов».
«И что с ними случилось?»
«Не знаю».
«А что говорили слухи?»
«Не слышала».
«Бабушка…»
«Может, я продолжу?» Она почти кричит. Ее губы дрожат, она уже не ждет разрешения, и вдруг до меня доходит, как ей важно рассказать эту историю – пусть хоть раз прозвучит и станет известна всем на свете.
И именно потому, что сейчас все столь обнаженно и открыто, я чувствую, что совершается гигантская ошибка: почему мы снимаем эту беседу за Нининой спиной? Почему даже сейчас, за минуту до того, как мы вступим на этот остров, чтобы наконец чуть-чуть очиститься от того, что, блин, измазало в грязи уже три поколения нашей семьи, – что мы вместо этого делаем? Что мы ей делаем?
«И они мне сказали: «Новак Вера, хорошенько подумай еще раз. У тебя есть минута на раздумья». И я снова сказала: «Даже секунды не нужно».
И полковник медицинской службы сказал: «Вы мертвого мужчину предпочли живой девочке? Что вы за мать? Что вы за женщина? Что вы за человек?»
И я ему сказала: «Я уже не мать, я не женщина, я не человек. Я ноль. Мать, и женщина, и человек Новак Вера умерла. Вы убили причину ими быть. Ничего я вам не подпишу. Делайте что хотите».
«Подпиши им!» – снова, не владея собой, рычу я. На сей раз Вера меня услышала. Она откинулась в кресле и впилась в меня долгим и мрачным взглядом. Кивает с горечью