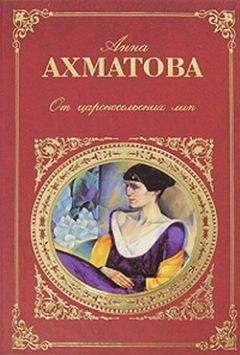Ведь под аркой на Галерной…
А. Ахматова
В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем.
О. Мандельштам
То был последний год…
М. Лозинский
Петербург 1913 года. Лирическое отступление: последнее воспоминание о Царском Селе. Ветер, не то вспоминая, не то пророчествуя, бормочет:
Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты,
И весь траурный город плыл
По неведомому назначенью,
По Неве иль против теченья, —
Только прочь от своих могил.
На Галерной чернела арка,
В Летнем тонко пела флюгарка,
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл.
Оттого, что по всем дорогам,
Оттого, что ко всем порогам
Приближалась медленно тень,
Ветер рвал со стены афиши,
Дым плясал вприсядку на крыше
И кладбищем пахла сирень.
И царицей Авдотьей заклятый,
Достоевский и бесноватый,
Город в свой уходил туман.
И выглядывал вновь из мрака
Старый питерщик и гуляка,
Как пред казнью бил барабан…
И всегда в духоте морозной,
Предвоенной, блудной и грозной,
Жил какой-то будущий гул…
Но тогда он был слышен глуше,
Он почти не тревожил души
И в сугробах невских тонул.
Словно в зеркале страшной ночи
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек, —
А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый Век.
А теперь бы домой скорее
Камероновой Галереей
В ледяной таинственный сад,
Где безмолвствуют водопады,
Где все девять[84] мне будут рады,
Как бывал ты когда-то рад.
Там за островом, там за садом
Разве мы не встретимся взглядом
Наших прежних ясных очей,
Разве ты мне не скажешь снова
Победившее смерть слово
И разгадку жизни моей?
Глава четвертая и последняя
Любовь прошла, и стали ясны
И близки смертные черты.
Вс. К.
Угол Марсова Поля. Дом, построенный в начале XIX века братьями Адамини. В него будет прямое попадание авиабомбы в 1942 году. Горит высокий костер. Слышны удары колокольного звона от Спаса на Крови. На Поле за метелью призрак дворцового бала. В промежутке между этими звуками говорит сама Тишина:
Кто застыл у померкших окон,
На чьем сердце «палевый локон»,
У кого пред глазами тьма? —
«Помогите, еще не поздно!
Никогда ты такой морозной
И чужою, ночь, не была!»
Ветер, полный балтийской соли,
Бал метелей на Марсовом Поле,
И невидимых звон копыт…
И безмерная в том тревога,
Кому жить осталось немного,
Кто лишь смерти просит у Бога
И кто будет навек забыт.
Он за полночь под окнами бродит,
На него беспощадно наводит
Тусклый луч угловой фонарь, —
И дождался он. Стройная маска
На обратном «Пути из Дамаска»
Возвратилась домой… не одна!
Кто-то с ней «без лица и названья»…
Недвусмысленное расставанье
Сквозь косое пламя костра
Он увидел. – Рухнули зданья…
И в ответ обрывок рыданья:
«Ты – Голубка, солнце, сестра! —
Я оставлю тебя живою,
Но ты будешь моей вдовою,
А теперь…
Прощаться пора!»
На площадке пахнет духами,
И драгунский корнет со стихами
И с бессмысленной смертью в груди
Позвонит, если смелости хватит…
Он мгновенье последнее тратит,
Чтобы славить тебя.
Гляди:
Не в проклятых Мазурских болотах,
Не на синих Карпатских высотах…
Он – на твой порог!
Поперек.
Да простит тебя Бог!
(Сколько гибелей шло к поэту,
Глупый мальчик: он выбрал эту,
– Первых он не стерпел обид,
Он не знал, на каком пороге
Он стоит и какой дороги
Перед ним откроется вид…)
Это я – твоя старая совесть
Разыскала сожженную повесть
И на край подоконника
В доме покойника
Положила – и на цыпочках ушла…
Послесловие
ВСЕ В ПОРЯДКЕ: ЛЕЖИТ ПОЭМА
И, КАК СВОЙСТВЕННО ЕЙ, МОЛЧИТ.
НУ, А ВДРУГ КАК ВЫРВЕТСЯ ТЕМА,
КУЛАКОМ В ОКНО ЗАСТУЧИТ, -
И ОТКЛИКНЕТСЯ ИЗДАЛЕКА
НА ПРИЗЫВ ЭТОТ СТРАШНЫЙ ЗВУК -
КЛОКОТАНИЕ, СТОН И КЛЕКОТ -
И ВИДЕНЬЕ СКРЕЩЕННЫХ РУК?…
Часть втораяРЕШКА
…я воды Леты пью,
Мне доктором запрещена унылость.
Пушкин
In my beginning is my end.
T. S. Eliot[85]
Место действия – Фонтанный Дом. Время – 5 января 1941 г. В окне призрак оснеженного клена. Только что пронеслась адская арлекинада тринадцатого года, разбудив безмолвие великой молчальницы-эпохи и оставив за собою тот свойственный каждому праздничному или похоронному шествию беспорядок – дым факелов, цветы на полу, навсегда потерянные священные сувениры… В печной трубе воет ветер, и в этом вое можно угадать очень глубоко и очень умело спрятанные обрывки Реквиема. О том, что мерещится в зеркалах, лучше не думать.
…жасминный куст,
Где Данте шел и воздух пуст.
Н. К.
I
Мой редактор был недоволен,
Клялся мне, что занят и болен,
Засекретил свой телефон
И ворчал: «Там три темы сразу!
Дочитав последнюю фразу,
Не поймешь, кто в кого влюблен,
II
Кто, когда и зачем встречался,
Кто погиб, и кто жив остался,
И кто автор, и кто герой, —
И к чему нам сегодня эти
Рассуждения о поэте
И каких-то призраков рой?»
III
Я ответила: «Там их трое —
Главный был наряжен верстою,
А Другой как демон одет, —
Чтоб они столетьям достались,
Их стихи за них постарались,
Третий прожил лишь двадцать лет,
IV
И мне жалко его». И снова
Выпадало за словом слово,
Музыкальный ящик гремел.
И над тем флаконом надбитым
Языком кривым и сердитым
Яд неведомый пламенел.
V
А во сне все казалось, что это
Я пишу для Артура либретто,
И отбоя от музыки нет.
А ведь сон – это тоже вещица,
Soft embalmer[86], Синяя птица,
Эльсинорских террас парапет.
VI
И сама я была не рада,
Этой адской арлекинады
Издалека заслышав вой.
Все надеялась я, что мимо
Белой залы, как хлопья дыма,
Пронесется сквозь сумрак хвой.
VII
Не отбиться от рухляди пестрой.
Это старый чудит Калиостро —
Сам изящнейший сатана,
Кто над мертвым со мной не плачет,
Кто не знает, что совесть значит
И зачем существует она.
VIII
Карнавальной полночью римской
И не пахнет. Напев Херувимской
У закрытых церквей дрожит.
В дверь мою никто не стучится,
Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит.
IX
И со мною моя «Седьмая»,
Полумертвая и немая,
Рот ее сведен и открыт,
Словно рот трагической маски,
Но он черной замазан краской
И сухою землей набит.
X
Враг пытал: «А ну, расскажи-ка»,
Но ни слова, ни стона, ни крика
Не услышать ее врагу.
И проходят десятилетья,
Пытки, ссылки и казни – петь я
В этом ужасе не могу.
XI
И особенно, если снится
То, что с нами должно случиться:
Смерть повсюду – город в огне,
И Ташкент в цвету подвенечном…
Скоро там о верном и вечном
Ветр азийский расскажет мне.
XII
Торжествами гражданской смерти
Я по горло сыта. Повертье,
Вижу их, что ни ночь, во сне.
Отлучить от стола и ложа —
Это вздор еще, но негоже
Выносить, что досталось мне.
XIII
Ты спроси у моих современниц,
Каторжанок, «стопятниц», пленниц,
И тебе порасскажем мы,
Как в беспамятном жили страхе,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы.
XIV
Посинелые стиснув губы,
Обезумевшие Гекубы
И Кассандры из Чухломы,
Загремим мы безмолвным хором,
Мы, увенчанные позором:
«По ту сторону ада мы…»
XV
Я ль растаю в казенном гимне?
Не дари, не дари, не дари мне
Диадему с мертвого лба.
Скоро мне нужна будет лира,
Но Софокла уже, не Шекспира.
На пороге стоит – Судьба.
XVI
Не боюсь ни смерти, ни срама,
Это тайнопись, криптограмма,
Запрещенный это прием.
Знают все, по какому краю
Лунатически я ступаю
И в какой направляюсь дом.
XVII
Но была для меня та тема
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут.
Между «помнить» и «вспомнить», други,
Расстояние, как от Луги
До страны атласных баут[87].
XVIII
Бес попутал в укладке рыться…
Ну, а как же могло случиться,
Что во всем виновата я?
Я – тишайшая, я – простая,
«Подорожник», «Белая стая»…
Оправдаться… но как, друзья?
XIX
Так и знай: обвинят в плагиате…
Разве я других виноватей?
Впрочем, это мне все равно.
Я согласна на неудачу
И смущенье свое не прячу…
У шкатулки ж тройное дно.
XX
Но сознаюсь, что применила
Симпатические чернила…
Я зеркальным письмом пишу,
И другой мне дороги нету —
Чудом я набрела на эту
И расстаться с ней не спешу.
XXI
Чтоб посланец давнего века
Из заветнейших снов Эль Греко
Объяснил мне совсем без слов,
А одной улыбкою летней,
Как была я ему запретней
Всех семи смертельных грехов.
XXII
И тогда из грядущего века
Незнакомого человека
Пусть посмотрят дерзко глаза,
Чтобы он отлетающей тени
Дал охапку мокрой сирени
В час, как эта минет гроза.
XXIII
А столетняя чаровница[88]
Вдруг очнулась и веселиться
Захотела. Я ни при чем.
Кружевной роняет платочек,
Томно жмурится из-за строчек
И брюлловским манит плечом.
XXIV
Я пила ее в капле каждой
И бесовскою черной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой:
Я грозила ей Звездной Палатой[89]
И гнала на родной чердак[90] —
XXV
В темноту, под Манфредовы ели,
И на берег, где мертвый Шелли,
Прямо в небо глядя, лежал, —
И все жаворонки всего мира[91]
Разрывали бездну эфира
И факел Георг[92] держал.
XXVI
Но она твердила упрямо:
«Я не та английская дама
И совсем не Клара Газуль[93],
Вовсе нет у меня родословной,
Кроме солнечной и баснословной,
И привел меня сам Июль.
XXVII
А твоей двусмысленной славе,
Двадцать лет лежавшей в канаве,
Я еще не так послужу,
Мы с тобой еще попируем,
И я царским моим поцелуем
Злую полночь твою награжу».
5 января 1941