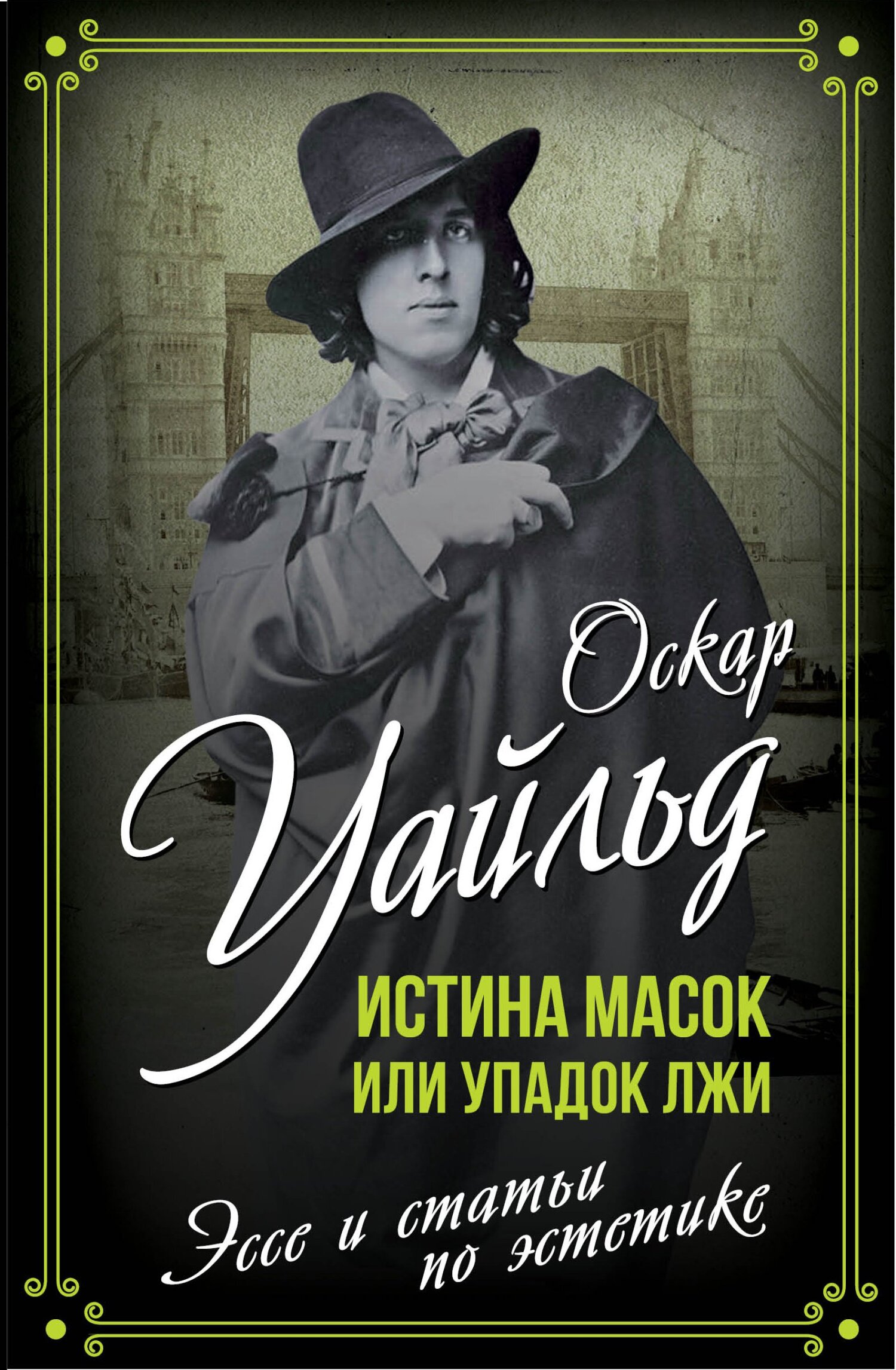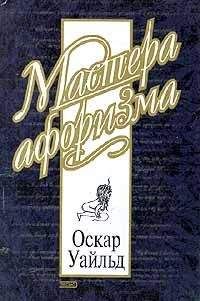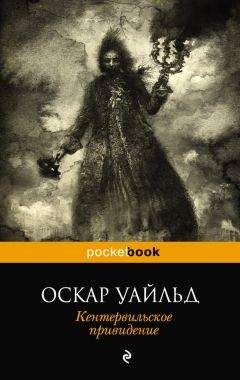юбка должна приобрести какое-нибудь положительное значение, она должна отбросить всякое стремление «не отличаться по виду от обыкновенной юбки»; она должна уменьшить среднюю ширину каждой из своих двух половин и пожертвовать всеми своими глупыми сборками и оборками; с той минуты, как она начинает имитировать обыкновенную юбку, она погибла; но пусть она смело объявит себя тем, что она действительно есть, и она сделает огромный шаг на пути разрешения настоящего затруднения. Я уверен, что найдется много грациозных, очаровательных девушек, которые будут готовы носить костюм, основанный на этих принципах, несмотря на страшную угрозу м-ра Хьюши, что он не сделает им предложения, пока они будут носить такой костюм, ибо все обвинения в недостатке женственности в такого рода костюмах совершенно бессмысленны; каждый рациональный вид одежды одинаково пригоден для обоих полов, и абсолютно нет такой вещи, как определенно женская часть платья.
Мне только хотелось бы сказать одно слово предостережения: верхняя туника должна быть пышной и умеренно широкой; по желанию, она может быть скроена более или менее по фигуре, но ни в каком случае она не должна быть стеснена в талии каким-либо поясом или лентой; наоборот, она должна спадать от плеч до колен или ниже красивыми изгибами и вертикальными линиями, предоставляя большую свободу и, следовательно, большее изящество. Немногие виды одежды так абсолютно некрасивы, как опоясанная туника, доходящая едва-едва до колен; мне хотелось бы, чтобы некоторые из наших Розалинд приняли это во внимание, когда они надевают трико; благодаря именно пренебрежению этим принципом так безобразен, так непропорционален гимнастический дамский костюм, который в других отношениях вполне разумен.
11 ноября 1884 г.
Перевод М.Ф. Ликиардопуло
Отношение одежды к искусству
Графическая заметка о лекции мистера Уистлера
— Как вы можете писать эти уродливые треуголки? — спросил однажды какой-то легкомысленный критик сэра Джошуа Рейнольдса.
— Я вижу в них свет и тень, — ответил художник.
«Великие колористы, — говорит Бодлер в восхитительной статье о художественном значении сюртуков, — великие колористы умеют создавать краски из черного сюртука, белого галстука и серого фона».
«Искусство писать и находить прекрасное во всех эпохах, как делал это и верховный жрец искусства Рембрандт, когда он увидал живописное величие еврейского квартала в Амстердаме, нисколько не жалея, что обитатели его не были эллинами» — вот прекрасные, простые слова, произнесенные м-ром Уистлером в одной из самых ценных частей его лекции. То есть наиболее ценной части для художника, так как английскому художнику нужно без конца напоминать, что никто специально для него не приготовил живописной жизни и что пусть он сам озаботится, чтобы увидеть ее при живописных условиях, то есть при условиях одновременно изысканных и новых. Но между отношением художника к публике и отношением публики к искусству лежит непроходимая пропасть.
Совершенно справедливо, что, при некоторых условиях светотени, вещь, в сущности уродливая, может дать впечатление прекрасной; и в этом, собственно, лежит действительная современность искусства; но как раз на эти-то условия светотени мы и не можем всегда рассчитывать, особенно когда мы идем по Пикадилли среди сияющей вульгарности полудня или сидим в парке, имея фоном какой-нибудь глупый заката солнца. Если б мы могли носить повсюду с собою свою светотень, как мы носим зонтики, все обстояло бы прекрасно; но так как это невозможно, мне едва ли представляется допустимым, что красивые, восхитительные люди будут по-прежнему носить одежду, столь же безобразную, сколь и бесполезную, и столь же бессмысленную, сколь и чудовищную, хотя бы даже была возможность, что такой мастер, как м-р Уистлер, одухотворил бы их до симфонии или утончил их до тумана. Ибо искусства созданы для жизни, а не жизнь для искусств.
И не уверен я также, что м-р Уистлер сам был всегда верен догмату, который он как бы проповедует: будто художник должен писать только одежду своего века и окружающую его обстановку; я далек от мысли, чтобы навалить на бабочку [185]тяжелым бременем ответственность за ее прошлое: я всегда держался того мнения, что постоянство — последнее убежище людей с убогой фантазией; но разве все мы не видели и большинство нас не восхищалось картиной, написанной тем же Уистлером и изображающей восхитительных английских девушек, гуляющих на берегу опалового моря в фантастических японских костюмах? И разве улица, где живет м-р Уистлер, не была взволнована в один прекрасный день известием, что все натурщицы из Челси [186]позировали мастеру для пастелей в пеплумах?
Все, что исходит из-под кисти м-ра Уистлера, слишком совершенно в своей красоте, чтобы быть поколебленным или утвержденным какими бы то ни было умственными догматами искусства, даже хотя бы эти догматы были самим м-ром Уистлером установлены, ибо красота оправдывает всех своих детей и не нуждается в объяснениях; но невозможно просмотреть какую-нибудь коллекцию современных картин в Лондоне, начиная с Берлингтон-хауса [187]и кончая Гровенорской [188]галереей, не испытывая чувства, что профессиональная модель губит живопись и низводит ее до уровня простой позы и пастиша [189].
И разве он всем вам не надоел, этот почтенный обманщик, только что сошедший со ступеней Piazza di Spagna [190], в свободные минуты, оторванный у убогой шарманки, обходящий поочередно все студии.
Разве мы все не узнаем его, когда с веселой беспечностью, свойственной его нации, он снова появляется на стенах наших летних выставок, в виде всего того, что так не похоже на него, и никогда не в собственном действительном виде, то надменно глядя на нас в виде Комланского патриарха, то сияя нам разбойником из Абруцци? Он популярен, этот бедный профессор позы, среди тех, кому выпала радость написать посмертный портрет последнего благотворителя, забывшего при жизни снять с себя фотографии, но он признак упадка, символ разложения.
Ибо все костюмы — карикатуры. Основой искусства не может служить костюмированный бал. Там, где одежда красива, не может быть маскарада. И будь наш национальный костюм очаровательным по краскам, простым и искренним по покрою; будь одежда выражением красоты, которую она прикрывает, и быстроты и движения, которым она не препятствует; если бы линии ее спадали с плеч, а не выпирали от талии; если б перевернутая рюмка перестала быть идеалом ее; будь все это осуществлено, как это когда-нибудь будет, тогда живопись перестала бы быть искусственной реакцией против уродливости жизни, а сделалась бы, как ей и подобает, естественной выразительницей красоты жизни. И не только живопись, но и все другие виды искусства выиграли бы значительно от предлагаемых мною изменений; я хочу сказать, выиграли бы усиленной атмосферой красоты, которой окружены были бы