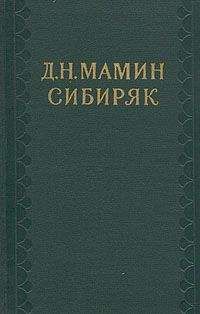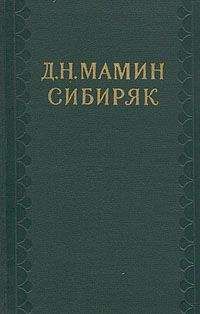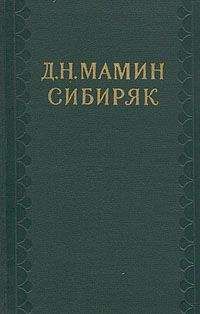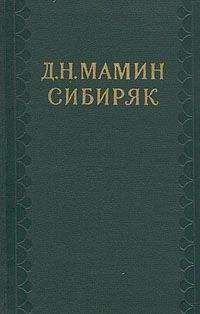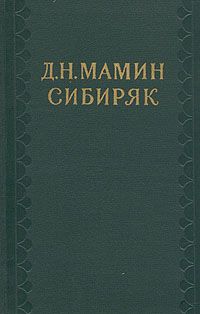Акинфий обиделся и замолчал. Наступила неловкая пауза. Павел Степаныч хотел сказать еще что-то по его адресу, но на половине фразы заснул.
Опять мертвая тишина, прерываемая только пением в глубине земли. Я полежал с полчаса, напрасно стараясь заснуть, а потом вышел на воздух. Слишком много было впечатлений за этот день, и они никак не укладывались. Огонь перед пасекой уже догорал, а около него, скорчившись, спали Лебедкин и Левонтич. Бодрствовал один Ефим. Я подошел и сел рядом с ним. Он не шевельнулся, и я в свою очередь скоро забыл о его существовании. Мне казалось, что я ушел куда-то в глубины русской истории, той не писанной присяжными учеными истории, которая создалась сама собой, как большая река из маленьких ключей. Борьба за существование вершилась здесь в самых примитивных формах, с рогатиной в одной руке и с ножом в другой, как в доброе пещерное время. Я чувствовал в самом себе пещерного человека и понимал его со всем обиходом его пещерных мыслей, чувств и желаний. Но и у пещерного человека были свои нравственные требования, — он не только добывал себе пищу, укрывался от холода и защищал свое гнездо, но и задавал себе мудреные вопросы: как? почему? В пещерной жизни было слишком много неправды и всякого зла (до Феклисты включительно), получался страшный разлад в душе пещерного человека, и он уходил спасать свою душу опять-таки в лес. О, как отлично я понимал вот этих пустынножителей, которые сами бы даже и не сумели рассказать словами своего душевного настроения. Да, зло слишком велико, оно царюет в каждом пещерном человеке, и для спасения необходимы самые энергичные средства: золотой средины здесь не могло и быть. Пещерный человек спасал свою омраченную душу с каким-то ожесточением, как раньше ходил с рогатиной на медведя. Северный траурный лес, мертвая зима с ее вьюгами и сорокаградусными морозами — все точно создано для такого покаянного настроения. Проникнутая мирским зверством душа оттаивает и выливается в этих ноющих звуках скитнического пения… Ведь правда там, наверху, и умиротворенная душа рвется в таинственную даль с кровавыми слезами. Вот и Ефим идет по этой дороге и внесет с собой в упадающее скитничество свою «крепость и умственность до бесконечности», — отшельничество у него в выражении глаз, в улыбке, в каждом движении. Он здесь, на земле, только временный гость и, что особенно важно, сам сознает это.
— Что, Ефим, много старцев спасается в горах? — спросил я, нарушая молчание.
— Есть… А прежде больше было. Ослабел народ…
— Ведь нынче даны большие льготы старообрядцам, и должно было бы быть наоборот.
— Это для приемлющих священство, а не для нас. У нас старики правят. Между собою разделение пошло большое: что ни дом, то и своя вера. Бес проскочил промежду боголюбивыми народами. И старики наши ослабели: не стало прежнего гонения, не стало и крепости. Последние времена…
Утром все встали рано: нужно было до жары подняться к горе Глухарь, до которой от скита считали верст пятнадцать. В скиту все еще шла служба, так что нам так и не удалось проститься с гостеприимными старцами. Лебедкин проспался и был мрачен. Левонтич седлал лошадей. Старик Акинфий, разбитый бессонной ночью, едва бродил по поляне, разминая ноги. Как хорошо это горное утро, свежее, бодрящее, ароматное. Все кругом точно умылось ночной росой, капли которой сверкали в траве, как алмазные слезы. Мой серый отдохнул и несколько раз во время заседлывания пробовал укусить Левонтича.
— Балуй, ежовая голова!.. — с деланной грубостью кричал на него Левонтич.
Отдохнувшие лошади вообще позволяют себе некоторое лошадиное кокетство: притворно прижимают уши, притворно стараются укусить, притворно брыкаются. Я уверен, что наши лошади оставляли роскошное пастбище с искренним душевным прискорбием, — им так хорошо было здесь, даже несмотря на железные путы. На пасеке остались Лебедкин и Акинфий, а остальные ехали на Глухарь. Лебедкин тяжело и сокрушенно вздыхал, тряс головой и вообще обнаруживал довольно ясные признаки раскаяния.
— Этаких-то подлецов удавить мало, — ворчал он в пространство. — Как я теперь к жене покажусь с этакой, например, образиной?..
— Хорош!.. — коротко заметил Павел Степаныч, усаживаясь в седле.
— Бывают хуже, да редко, родимый мой… А как ты полагаешь, Павел Степаныч, что мне дражайшая супруга должна сказать? «Пошел вон, подлец!» — вот и весь разговор. Значит, ежели она мне правильная жена… А я ей скажу: «Гони ты меня, Дарья, в шею!» Вот какой у нас разговор… Кругом я себя окружил качествами, как частоколом. Просил старцев отмаливать, так говорят: твой грех, ты и отмаливайся…
— Ну, прощай, Акинфий, — сказал Павел Степаныч, забирая поводья. — Спасибо на угощенье.
— Не обессудьте, родимые…
Наш поезд опять вытянулся по тропе к Дикой Каменке. Впереди, раскачиваясь в седле, ехал вож Ефим, замыкал цепь Левонтич. Покрытый росой луг так и искрился под лучами яркого утреннего солнца. Мокрая трава цепко хватала за ноги и оставляла на сапоге свои семена. Лошади шли «с-ходы», как ездят в дальнюю дорогу. Вот и луг кончился. От нашей ночевки остался назади только легкий дымок. Скит давно уже скрылся из глаз. Впереди густой лес, темной ратью залегший по Каменке. Вот и болото, и сквозь сетку деревьев уже блестит речное плесо. Где-то прокуковала лесная сирота-кукушка и смолкла.
Через Каменку переправились мы вброд, причем лошади усиленно фыркали, прядали ушами и обнаруживали все признаки душевного волнения. Черная точка отделилась от берега и поплыла вверх по реке. Мне было лень слезать с седла, и Павел Степанович бросился в мокрую траву. Остановка. Утренняя дрожь охватывает все члены. Даже бурка не спасает от горной свежести. Громкий выстрел раскатился по реке эхом, точно и лес и река вскрикнули от испуга. Из травы показалась голова Павла Степаныча и опять скрылась: утка, видимо, только ранена. Минута томительного ожидания, и новый выстрел. Левонтич бежит по берегу и машет руками. Раненая утка волочит крыло по воде и быстро скрывается в осоке.
— Теперь шабаш, — замечает Ефим, удерживая насторожившихся лошадей на поводьях. — Подранок уйдет… Без собаки ничего не поделаешь: хоть наступи на нее.
Он говорил об утке-подранке без всякого сожаления, как охотник, и мне кажется, что сегодня ночью я видел другого Ефима. Теперь его захватила грубая зоологическая правда, и даже это удивительное лицо потеряло свой внутренний свет…
Утка-подранок так и скрылась, а мы поехали дальше. Тропинка начала забирать в гору и быстро скрылась в настоящем дремучем ельнике, где в самые большие летние жары сохраняется обильная влага, а наша тропинка, видимо, никогда не просыхала. Лошади начали вязнуть в грязи, и приходилось лавировать между деревьями. Камни, валежник, грязь по колено, — а деревья точно все теснее и теснее сдвигаются, загораживая дорогу. Едешь, и вдруг точно живая рука протягивается и срывает шапку с головы. Следовавший за мной Левонтич каждый раз поднимал ее с земли, свешиваясь с седла, как настоящий джигит. В одном месте, когда мой серый с отчаянным усилием рванулся из трясины, та же деревянная рука схватилась за мое ружье и потащила с седла, — я удержался в седле, но новенький кожаный погон лопнул.
Чем дальше, тем путь делался труднее. Все ехали молча, предоставив все уменью привычных лошадей, а этому горному болоту не было конца-краю. Поезд растянулся; маленькая фигура Ефима мелькала далеко впереди.
— А чтоб ему пусто было, этому болоту! — ругался Павел Степаныч, хватаясь руками за лошадиную гриву. — И откуда здесь болоту взяться.
— В раменье завсегда так, — объяснял Левонтич. — Болота нет, а солнышко не хватает…
— Скоро выберемся из лесу?
— Версты с три еще будет…
— Три версты?! А чтоб ему пусто было… Пьяному черту здесь только ездить.
И достались нам эти три версты… Измотавшиеся лошади дымились от пота. А вож Ефим все едет вперед, плавно раскачиваясь в своем высоком пастушьем седле. Если бы не проклятая грязь, можно было бы полюбоваться дремучим лесом. Ели так и несутся в небо своими стрелками-вершинами… Какая строгая северная красота в этом дереве! Что-то такое родное и близкое во всем пейзаже, что трудно поддается определению. Желтый мох расцвечен колеблющимися золотыми пятнами; кой-где топорщится бледно-зеленая травка; а вот и безыменные желтые цветики — они напоминают здесь заблудившихся в лесу детей… Хорошо в этом дремучем лесу, если бы не проклятая дорога.
— Кто по ней ездит? — спрашиваю я Левоитича.
— Да кому ездить… Лесообъездчики ездят, ну, еще так кто, а больше никого. Вот к петрову дню по ней на могилу отца Павла народ идет…
— И много?
— Близко тысячи будет… Со всех сторон народ бредет.
Впереди что-то засветлело, и лес точно расступился. Это речка, и опять она, Дикая Каменка. Ефим остановился на самом берегу и поджидает нас.