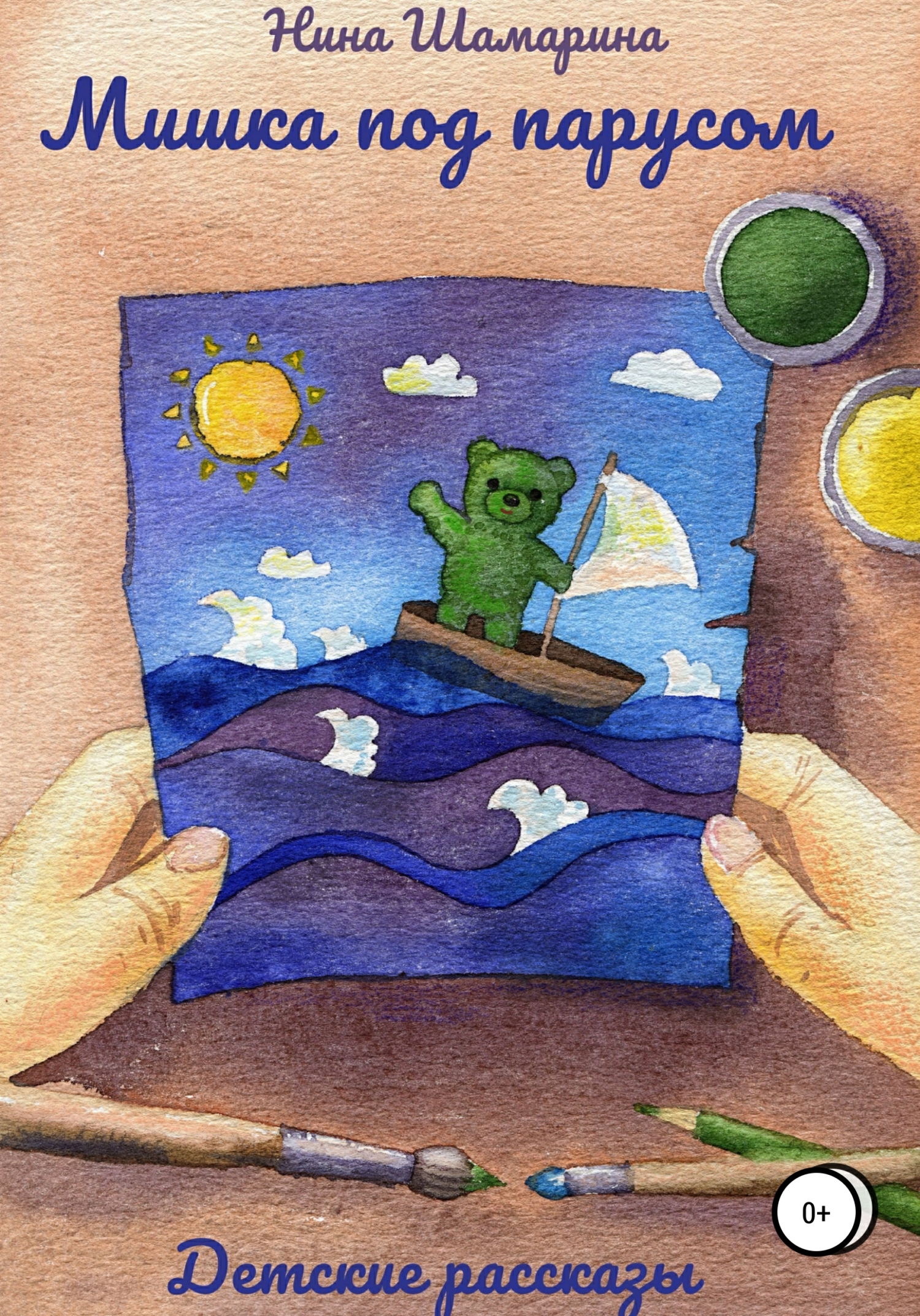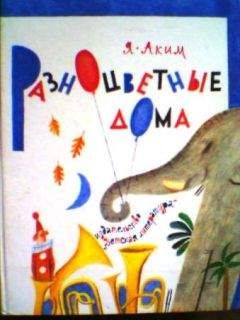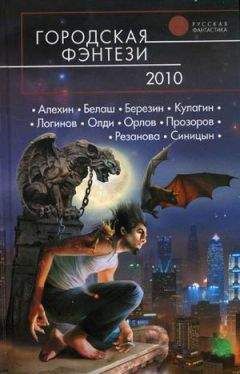удочек («порыбачили бы сейчас»), а мне нравилось абсолютно всё, даже начавшийся дождик, крупными редкими каплями, ударяющий по воде.
Побежали обратно, чтобы уехать, пока не размокла дорога. Застряли, машина пробуксовывала, никак не въезжала на горку. Усадил меня за руль (« газуй помаленьку»), а сам толкал громадный внедорожник вверх, мокрый с головы до пят.
Когда я проснусь, так сразу и начну скучать. Да что там! Я скучаю по нему, не успев опустить руки, вскинутой в прощальном салюте. А как станет невмоготу, обернусь птицей цвета метели и полечу к нему! Я покружусь над его домом и опущусь незримо и неслышно рядом с ним за дубовый стол. Никто меня не заметит, только, может, кошка прижмёт уши и зашипит в мою сторону. Я коснусь мягким крылом его щеки, и он засмеётся от счастья, ему непонятного. А я вернусь домой и буду ждать. Ждать, ждать, ждать. Пусть на это уйдёт вся моя жизнь.
Остановись, мгновенье!
– Нееет, девоньки, со временем шутить не надо! Особенно с просьбами «остановись, мгновенье». Можно жизни лишиться, – баб-Таня поправила платок на седых волосах.
– Вот, расскажу историю, которая со мной приключилась, хоть верьте, хоть – нет.
Баб-Таня положила руку на свою необъятную грудь, видимо, иллюстрируя таким образом фразу «мамой клянусь» или «положа руку на сердце».
– Живу я, вам кажется – давно, а для меня жизнь – как один день пролетела. Баб-Таня отхлебнула чай из блюдечка. Посреди стола исходила ароматом кулебяка, на плите шумел чайник, за окном шёл неспешный дождь. Всё располагало к историям баб-Тани, на которые та была большая мастерица.
– Была я совсем недавно юной девушкой, и влюбилась я в Ивана. Да, и как не влюбиться!! Глаза голубые, что январский снег, чуб – зерна пшеничного цвета, а по профессии – кузнец. Росточку, не так, чтобы большого, кряжистый, но силушкииии – немереной!
И вот стоим мы с Ванею, за ручку держимся. Раньше-то, как было: парень только за руку взял, а сердце сливочным маслом тает, не то, что сейчас. Нет, я не в осуждение, – тут же поправилась баб-Таня, славившаяся своей лояльностью к молодёжи, – просто сейчас по-другому. Жмёт мне Ваня ручку и к себе всё ближе притягивает, и уста его алые, – перешла баб-Таня на сказочный слог, – к лику моему уж близко-близко. Ой, думаю, поцелует сейчас! И губы к нему сама протягиваю, а голова кружится от счастья. Ох, остановись, мгновенье! Как вдруг, откуда ни возьмись, колдун наш местный – Варлам. Чудной он был, с нечистью, говорят, якшался, а не старел вовсе, как в бочке с капустой заквасили его. Годы идут, а он – молод. Проходит он, стало быть, мимо, наклоняется ко мне и в самое ухо говорит:
«Хочешь, Танюшка, мгновение остановлю для тебя?»
«Хочу, конечно, хочу, дяденька Варлам!» Самые сладкие минуточки переживать бесконечно, кто ж не хочет?
«Только учти, жизнь отдашь за этот поцелуй. Всё равно хочешь?»
« Да», – выдохнула я, и упала Ивану на грудь. И опалило губы любовным жаром, и застыли мы в упоении.
Баб-Таня обвела взглядом притихших девчат, держала паузу, ждала.
– И что, баб-Тань? Ведь, живая ты? – не выдержала одна из девчонок.
– То-то и оно, – баб-Таня снова замолчала и молчала теперь долго, остановившимся взглядом глядя в тёмное окно, за которым и видно-то ничего не было.
– То-то и оно, – повторила она снова. Жизнь отдала, что ж, что живая?
Ну, рассказываю дальше. Так целуемся мы с Ванею, сердце горит, время стоит. И стоит, и стоит… Час прошёл, год ли? Только чувствую я, есть как-то хочется. Да, и до ветру сбегала б, не отказалась. И чем далее мы с Ванею любовь свою выражаем, тем сложнее терпеть. И ноги уж затекли, стоямши, и губы распухли. И вообще, чегой-то Ванька навалился на меня, как будто стоять не может?
Приноравливалась я, приноравливалась, терпела-терпела, да и оторвала Ваню от груди своей! (Девчонки посмотрели на грудь с опасливым уважением) губы утёрла и говорю:
«Прости, Ваня, очень мне уйти хочется. Жизни не жалко».
И в туалет дунула. Бегу, и всё тяжелее мне, одышка какая-то появилась, о которой я раньше и не слыхивала. Сначала недосуг был, а опосля глянула в зеркало: «Мамочки мои!» Старуха на меня глядит, толстая, да косматая! Так жизнь и прошла, пока я Ивана поддерживала.
– Но, хоть, жива, баб-Тань? Не в могиле ж? – рассудительно произнесла та же девчонка, хотя по голосу было слышно, что жизнью жизнь баб-Тани она не считает. Какая у старухи жизнь?!
– А что ж с Иваном стало? – спросила самая юная из девчат, где он?
– Погиб Иван. Почитай, сразу, как время для нас опять пошло, и мы стариками сделались. В лес пошёл за дровами, деревом его придавило. Считай, жизнь свою мы с ним за любовь отдали. Так что, не торопите, девоньки, жизнь, но и не останавливайте. В прошлом не застревайте, жизнь пройдёт, не заметите как.
Ну, и ладно, ладно, заговорила я вас. Пирожок-то ешьте, ешьте. И чай совсем остыл!
Баб-Таня захлопотала вокруг стола, стерев с морщин предательскую слезу, которую, впрочем, никто и не заметил.
Двадцать семнадцать
Лёха разлепил глаза, когда поезд вынырнул на мост между Коломенской и Автозаводской. Глаза можно бы и не открывать, что он там не видел? Голубеющий вдалеке новый прессово-сварочный корпус, в котором он работал, или поблёскивающие стёклами «стотридцатые» на открытой площадке готовой продукции?
Голова болела нещадно, боль колыхалась тяжёлой жижей между веками и затылком. Странно, но Лёха ничего не помнил. Нет, конечно, то, что он ехал на работу на родной ЗИЛ во вторую смену, он знал абсолютно точно. Но отчего такая тяжесть в голове, и почему он спит в метро днём, не понимал никак. Прямо перед ним высокий парень в джинсах и кроссовках, надетых почему-то на босу ногу, держал перед собой маленькую чёрную пластину, неотрывно на неё глядя. Лёха изумился сквозь вату в голове не столько пластине, сколько торчащим над кроссовками голым щиколоткам: «Забыл, что ли, про носки?» Но размышлять не хотелось, и Лёха вновь провалился в сон на оставшиеся пару минут до своей остановки.
Лишь ступив на эскалатор, Лёха окончательно проснулся, хотя странные болезненные ощущения во всём теле остались. Верхний вестибюль поразил его неожиданным светом и ширью: исчезли многочисленные висящие аппараты для размена монет, тётеньки в голубых халатах, торчащие в окошках, и очереди к ним, сдвинута в угол театральная касса, у которой нет-нет да останавливались поглазеть выходящие на улицу. Турникеты «подросли» и «постройнели»: вместо обшитых лакированным ДСП привычных приземистых мигали лампочками и открывали стеклянные дверцы перед каждым пассажиром элегантные из стекла и блестящего металла сооружения.
«Ремонт сделали?» – попытался найти объяснение этому роскошеству Лёха. Дубовая дверь, привычно