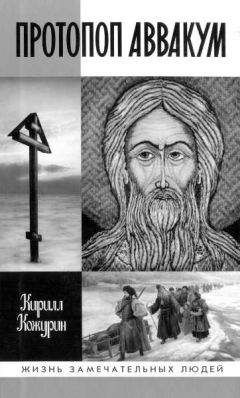Что это? Две стопы, словно два белые зайца, или два белые зайца, словно две легкие стопы? А дремота опять набегает, дремота сильная, неодолимая дремота, которую не нарушает ни солнце, достающее теперь лучами до его головы, ни пристяжная лошадь, которая, наскучив покоем, все решительней и решительней скапывала с себя узду и наконец скапнула ее, сбросила и, отряхнувшись, отошла и стала валяться. Все это будто так должно: лошадь идет дальше и дальше; вот она щипнула густой муравы на опушке; вот скусила верхушку дубочка, вот наконец ступила на засеянный клевером рубеж и пошла по нем дальше и дальше: Савелий все смотрит. Это не сон и не бденье. Он видит и слышит. Вон высоко над его головою в безоблачном небе плавает ворон. Ворон ли то или коршун? Нет, ворон: он держится стойче, и круги его шире… А вот долетает, как горстка гороха, ку-у-рлю. Это воронье ку-у-рлю, – это ворон. Что он назирает оттуда? Что ему нужно? Он устал парить в поднебесье и, может быть, хочет этой чудесной воды. Этой воды… Кто вам внушил, что здесь нет своей живой фантазии, своих чарующих преданий, не закопченных куревом костров? Туберозову приходит на память легенда, прямо касающаяся этой воды, этого ключа, дающего начало Гремучему ручью. Люди верят, что в воде Гремяка сокрыты великие силы. Чистый, прозрачный водоем этого ключа похож на врытую в землю хрустальную чашу. Образование его приписывают громовой стреле. Она пала с небес и проникла здесь в недра земли. Преданию известно, как это было. Тут некогда стал изнемогший в бою русский витязь, и его одного отовсюду облегала несметная сила татар. Погибель была неизбежна; – но витязь взмолился Христу, чтобы избавил его от позора, и в то же мгновенье из-под чистого неба вниз стрекнула стрела и взвилась опять кверху, и грянул удар, – и кони татарские пали, и пали с них всадники их, а когда они встали, то витязя не было больше, и на месте, где он дотуда стоял, гремя бил могучей струею студеный родник, сердито рвал ребра оврага и серебристым ручьем разбегался вдали по зеленому лугу.
Неведомо, что здесь: могила ль витязя, или место взятия его в иную область, которых много у Отца. Легенда не говорит об этом ничего, но она утверждает, что тут вечное таинственное присутствие Ратая веры. Здесь вера творит чудеса. Отсюда этим ключом бьет великая сила. Сюда к этим водам ради сил обновленья бредет согбенный летами старец; в эту хрустальную чашу студеной воды с молитвой и верой мать погружает младенца, и звери, и птица ту силу великую знают. Лохматая мать медведица и лесная орлиха и ворон приносят сюда своих юных детей, и их дети становятся сильны и крепки, как их омоет вода с богатырской могилы. И все здесь могуче, все сильно, все крепко, от вершины столетнего дуба до гриба, что ютится при корне, и до покоя уснувшего здесь человека.
Здесь все дело веры, и вот здесь и сила; а там… этот разлом, эта немощь сомнений… “Береги себя, – говорил мне Туганов; – выжидай, соображай, – самоотречением и самопожертвованием даже можно вредить священному делу, если станешь жертвовать собой не вовремя”. – Лукавая речь: не Христос ли ждал время? Нет; он его торопил; он вам ставил на вид, что дни малы, и вы не весте – ни дня, ни часа! Нет, мало веры в вас! Нет пламенной любви, в вас нет решительности, нет твердых упований… А я… Нет: мне позорно слушать вас; нет, мне просто преступно с вами соглашаться: еще какого время надо, чтоб истину поднять против интриг и ковов, что черная измена ставит русскому народу? Еще ли мало соблазненных ложью? Еще ль позор безумств, свершенных нами, не обратился в притчу во языцех? Еще ль не слышите… там мнят уже распятым дух России и жребий мечут о его хитоне… Но это ложь: над ним пророки совершатся: воскреснет он и облечется силою и славой… Безмолвствуй, ложь! Я слышу звон и шелест под землею… То Минин Сухорук проснулся и встает в могиле… то звон меча, который вновь берет и им препоясуется Пожарский… Вставай, вставай, наш русский князь, и рассеки своим мечом врагов родной земли хитросплетенный узел! Восстань, нижегородец Минин, и доблестью своею научи внучат твоих вменять себя в ничто перед величьем Руси! Светильники земли родной! восстаньте вы от Запада и Севера, и моря, из стран цветущих Гурии, из киевских пещер и соловецких льдов и осветите путь встающей духом Руси!
Пускай она не тешит больше убожеством своих заблудшихся сынов кичливый, гордый Запад!
– Да, да, – заговорил он, задыхаясь и начав сильно метаться впросонье, – я чувствую сюда… нисшел… великий… страшный… непобедимый дух… О Боже! Мне не снесть… его наитье нестерпимо душе расслабленной и в суете погрязшей… Да; это он… идет… идет… (слово от слова тише и тише заговорил Туберозов). – То он, то дух, благоволящий Руси… а встречь ему… я зрю… во всеоружьи правды грядет от века нам предсказанный царевич русский.
– О, я теперь хочу, я жажду в жизни раз царем творенья стать! О, я хочу коснуться вечной правды и подвигом бесстрашия отметить на земле мое течение… Но она!.. Моя голубка, горлица моя, левкойная моя подруга! Она… она, как понесет со мной обиду?.. Мне жаль ее!.. Но это ничего, а если… А если прав Туганов, и тот подвиг, о коем я столь долго размышляю, не в благо будет, а лишь в строптивость мне вменится?.. О разреши! о разреши мне ныне, Бог, мои сомненья! Народ в священной сердца простоте так твердо верит, что отселе ты слышишь всякую молитву. Зову тебя отсель! О поспеши ко мне, о поспеши, коль можешь поспешить, дающий силу детям ворона, медведя и орлицы!
– Здравствуй, Савелий! – прожурчало опять над ухом Туберозова. Это было так внятно, что старик быстро вскочил и, глянув в ту сторону, откуда слышалось слово, успокоился, видя, что тут никого нет; но в ту же минуту тот самый голос с другой стороны еще яснее сказал ему: “Здравствуй, поп велий!”
Туберозов затрепетал, вскочил быстро на ноги и, почувствовав, что у него на голове шевелятся его седые волосы, хотел провести по ним рукою; но только коснулся ею головы, как быстро уронил ее книзу: его волосы жгли его руку как крапива.
Протопоп осенил себя крестом и, глянув спокойней вперед, увидал перед собою шагах в трех небольшое бланжевое облачко, которое, меняя очертания, тихо удалялось и полетело над рубежом, по которому бродила свободная лошадь.
Удивившее Туберозова облако шло прямо на бродившего по рубежу коня и, настигнув его, вдруг засновало, вскурилось, а потом легло и потянулось вперед как дым из пушечного жерла. Ту же минуту лошадь дико всхрапнула и, широко раскрыв рот и глаза, в ужасе с ржаньем понеслася, не чуя под собою земли.
Это была уже не мечта, а быль, и очень неприятная быль: лошадь может искалечиться или и вовсе пропасть: а между тем, по-настоящему, пора бы и ехать.
Туберозов разбудил поскорей Павлюкана, помог ему вскарабкаться на другого коня и послал его в погоню за беглецом, которого между тем уже не было и следа.
Савелий вынул свои серебряные часы и посмотрел на них: была четверть четвертого.
– Эх, как проспали! – подумал он. – А теперь еще вот эта история, и, Бог знает уже, когда удастся добраться домой.
Впрочем, и то, что он запоздал, и история с лошадью, по-видимому, нимало старику не досаждали: он даже как будто рад был задержке, зевнул и сел в тени с непокрытой муравою.
– Сагою веет от этих мест, – повторил он себе, вторично зевая… – И странно… что я все вздрагиваю и как будто наэлектризован? Читал недавно я в газетах, что есть места, где вследствие неизученных еще условий электричество проявляется с необыкновенной силою. Сосюр и Лумис показали на такие места в Граубиндене и на горах Невады, что волосы людей колыхались и, стремяся подняться, производили сильный и неприятный шум, в спину получались уколы и обжоги, палки и трости жужжали и пели, словно рой оводов, а с концов пальцев и ушей отделялися сильные токи.
Протопоп опять повел рукой по голове и опять вместо волос что-то неприятное, как оса, прошло между его пальцев.
– Ну да; это так: я совсем наэлектризован.
Чу!.. что это? Как ветер клонит ниву, – точно кто в ней ходит…
Это может быть “Государь Пантелей собирает цветы и травы на свой целебный елей”. – О!
Государь Пантелей!
Ты и нас пожалей!
Свой чудесный елей
В наши раны излей,
В наши многие раны сердечные.
Есть меж нами душою увечные,
Есть и разумом тяжко болящие,
Есть глухие, немые, незрящие,
Опоенные злыми отравами,
Помоги им своими ты травами.
А еще, Государь,
(Чего не было встарь)
И такие меж нас попадаются,
Что лечением всяким гнушаются,
Они звона не терпят гуслярного,
Подавай им товара базарного,
Всё, чего им ни взвесити, ни смерити,
Всё, кричат они, надо похерити;
Только то, говорят, и действительно,
Что для нашего тела чувствительно.
И на этих людей,
Государь Пантелей,
Палки ты не жалей,
Суковатыя! —
Растление какое умов и нравов! Эти стихи вменены поэту в величайшее преступление!.. Как взаправду не преступно; там слагаются союзы, как отнять у нас не только скарб и жизнь, но даже духовное наше состояние и водворить нас в скотство, а тут… миндальничайте; не смейте звать никакой кары, даже лозой учительной им погрозить преступно! О, бездна тупости какая! Как будто это всё своею волей пишется? События и время выводят письмена. Красноречивый Дамаскин, покинувший всю славу мира для того, чтоб петь песни хвалы Богу, и тот не молчал и поднимал голос.