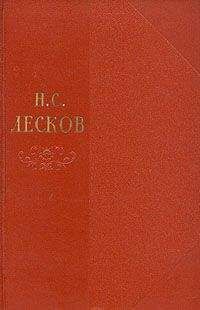— Это диковина, — отвечал другой.
— Это неспроста, — сказали свахи.
— Это его дело, — опять заметил первый дружко.
В углу, за сложенными бердами и всякою рухлядью, что-то зашумело.
— Ах! Ах! — закричали бабы, метнувшись в двери, а за ними выскочили и мужики.
— Чего вы? чего вы? — проговорил тихий Настин голос.
— Это молодайка! — воскликнули бабы.
— А, молодайка!
— Пойдем.
Опять отворили двери, и все ввалились в тесную пуньку. Григорий по-прежнему спал почти что впоперек кровати, а Настя сидела на полу в темном уголке, закутанная в белом веретье. Ее не заметили в этом уголке, когда она, не давая голоса, лежала, прислонясь к рухляди, вся закутанная веретьем.
— Что ты тут делаешь? — спросила ее Варвара.
— Видишь что… ничего! Скажи ребятам, чтоб вышли.
Дружки вышли за двери; а Настя встала и протянула руку к паневе. Варвара оглянула ее с плеч до ног и спросила:
— Что ж это ты дуришь, молодайка?
Настя ничего не ответила.
— Что ж это и справда? родителев только страмишь? — проговорила другая сваха.
А Настя все молчит да одевается.
— Куда ты? — спросила Варвара, видя, что Настя, одевшись, идет к двери.
— Умыться пойду.
— Стой-ка, красавица, так не делается! Подожди мужа. Ты! эй, ты! — звала Варвара Григория, толкая его под бок; а он только мычал с похмелья.
— Вставай, сокол ясный! Вставай, ворона голенастая! полно носом-то водить! — продолжала Варвара.
Гришка встал, чесал голову, чесал спину и никак не мог очнуться. Насилу его умыли, прибрали и повели с женою в избу, где был готов завтрак и новая попойка. Но тут же были готовы и пересуды. Одни ругали Настю, другие винили молодого, третьи говорили, что свадьба испорчена, что на молодых напущено и что нужно съездить либо в Пузеево к знахарю, либо в Ломовец к бабке. Однако так ли не так, а опять веселья не было, хотя подпили все опять на порядках.
Хороводились таким манером через пень в колоду до самого обеда. После обеда запрягли трое саней парами и стали собираться ехать к Настиным господам на поклон. Выложила Настя свои заветные ручники, на которых красной и синей бумагой были вышиты петухи, решетки, деревья и павлины, и задумалась над этими ручниками. Ей вспомнились другие дни, другие годы, когда она, двенадцатилетней девочкой, урывала свободный часок от барской работы и проворно метала иглою пестрые узоры ручниковых концов и краснела как маков цвет, когда девушки говорили: «Какие у Насти хорошие ручники будут к свадьбе».
Уселись поезжане. Настю с мужем посадили на задние сани; с ними села сваха Варвара, а за ними ехали верхами двое дружек. Из господского дома поезд прежде всех завидели девушки, забегали и засуетились, повторяя: «Молодые, молодые, на поклон едут!» Господа спали после обеда, но, услышав суету, встали. Барин надел ватный кашемировый халат и подпоясался, а барыня сняла со шкафа бутыль с зоревой настойкой и нацедила два графинчика водки. Поезд остановился у крыльца и не сходил с саней. Только один дружко слез с лошади и, отдав повод своему товарищу, вошел в хоромы.
— Здравствуй, Тихон! — сказал барин, увидя вошедшего знакомого парня.
— Здравствуй, Митрий Семеныч!
— Что, брат, скажешь?
— К твоей милости.
— Ты дружком, что ли? — спросил барин, глядя на перевязанный красным платком рукав Тихоновой свиты.
— Точно так, Митрий Семеныч! Молодые к тебе поклониться приехали: прикажешь принять?
— Как же, как же, Тихон! Веди молодых; спасибо, что вспомнили.
— Ну, вот благодарение тебе, — отвечал Тихон и вышел снова в сени.
На санях в ту же минуту началось движение. Бабы, мужики вставали, отряхивались и гурьбою полезли в прихожую. Тем временем барыня подала мужу в руки целковый, себе взяла в карман полтинник, а детям раздала кому четвертак, кому двугривенный, а Маше, как самой младшей, дала пятиалтынный. Дети показывали друг другу свои монеты и толковали, как они их положат на тарелку, когда придет время «отдаривать» Настю.
Отворилась дверь в маленький залец, и выступила из передней Настя и рядом с ней опять страшно размасленный Григорий. Поезжане стали за ними. В руках у Насти была белая каменная тарелка, которую ей подали в передней прежние подруги, и на этой тарелке лежали ее дары. Григорий держал под одною рукою большого глинистого гусака, а под другою такого же пера гусыню.
Молодые вошли, поклонились и стали у порога, не зная, что им делать.
— Здравствуйте, друзья мои, Григорий Исаевич и Настасья Борисовна!
— Здравствуйте, Митрий Семеныч! — отвечали разом все поезжане.
— И с хозяюшкой твоей и о детками, — подсказал кто-то из-за двери.
Молодые оба молчали.
— Спасибо, спасибо вам, что вспомнили меня.
— Да как же, Митрий Семеныч! — ответил кто-то из поезжан.
— Неш мы какие, прости господи…
— Мы твоей милости повсегды…
— Мы порядки соблюдаем, как по-божому, значит.
— Что ж ты невеселая такая, Настя? — спросила барыня.
— Не огляделась еще, сударыня! — ответила сваха Варвара.
— То-то, ты не скучай.
— А ты поклонись сударыне-то, — опять подсказала Варвара, толкая Настю под локоть.
Настя стояла и не поклонилась сударыне.
— Ну так что же: поздравить надо молодых-то, что ли? — спросил барин.
— Да, надыть поздравить, Митрий Семеныч, да дары принять, — отвечал дружко.
Григорий поставил на пол гусей, которые крикнули с радости и тотчас же оставили на полу знаки своего прибытия, а Настя подошла с своей тарелкой к барину.
Барин взял рюмку травника, поднял ее и проговорил:
— Ну, дай же вам бог жить в счастье, радости, совете, любви да согласии! — выпил полрюмки, а остальным плеснул в потолок.
— Спасибо тебе, Митрий Семеныч, на добром слове! — сказал Прокудин, а за ним и другие повторили то же самое. Настя подала барину ручник, а барин положил на тарелку целковый.
Так Настя одарила всю господскую семью и последний подала хорошенький ручник Маше.
Маша забыла положить свой пятиалтынный на тарелку и, держа его в ручонках, бросилась на шею к Насте.
— Ишь как любит-то! — заметила Варвара, поцеловав свесившуюся через Настино плечо руку девочки.
Между тем стали потчевать водкою поезжан, и начались приговорки: «горько», да «ушки плавают». Насте надо было целоваться с мужем, и Машу сняли с ее рук и поставили на пол.
Дошло потчевание до Варвары. Она взяла рюмку, пригубила и сказала: «Горько что-то!» Молодые поцеловались. Варвара опять пригубила и опять сказала: «Еще горько!» Опять молодые поцеловались, и на Настином лице выразилось и страдание и нетерпеливая досада.
А Варвара после второго целованья сказала: «Ну дай же бог тебе, Григорьюшка, жить да бога́теть, а тебе, Настасьюшка, спереди горбатеть!» — и выпила. Все общество рассмеялось.
Дружки дольше всех суслили свои рюмки и всё заставляли молодых целоваться. Потом угощали других поезжан.
А барыня тем временем подошла к молодым, да и спрашивает:
— Что ж, Григорий, любишь ты жену?
— Как же, сударыня, жену надыть любить.
— Всё небось целуетесь?
Григорий засмеялся и провел рукавом под носом.
— Ну, ишь барыне хочется, чтоб вы поцеловались, — встряла Варвара.
На Настином лице опять выразилась досада, а Григорий облапил ее за шею и начал трехприемный поцелуй.
Но за первым же поцелуем его кто-то ударил палкою по голове. Все оглянулись. На полу, возле Григория, стояла маленькая Маша, поднявши высоко над своей головенкой отцовскую палку, и готовилась ударить ею второй раз молодого. Личико ребенка выражало сильное негодование.
У Маши вырвали палку и заставили просить у Григория прощения. Ребенок стоял перед Григорьем и ни за что не хотел сказать: прости меня. Мать ударила Машу рукою, сказала, что высечет ее розгою, поставила в угол и загородила ее тяжелым креслом.
Девочка, впрочем, и не вырывалась из угла; она стояла смирно, надув губенки, и колупала ногтем своего пальчика штукатурку белой стены. Так она стояла долго, пока поезд вышел не только из господского дома, но даже и из людской избы, где все угощались у Костика и Петровны. Тут ничего не произошло выходящего из ряда вон, и сумерками поезд отправился к Прокудину; а Машу мать оставила в наказание без чая и послала спать часом раньше обыкновенного, и в постельке высекла. У нас от самого Бобова до Липихина матери одна перед другой хвалились, кто своих детей хладнокровнее сечет, и сечь на сон грядущий считалось высоким педагогическим приемом. Ребенок должен был прочесть свои вечерние молитвы, потом его раздевали, клали в кроватку и там секли. Потом один жидомор помещик, Андреем Михайловичем его звали, выдумал еще такую моду, чтобы сечь детей в кульке. Это так делал он с своими детьми: поднимет ребенку рубашечку на голову, завяжет над головою подольчик и пустит ребенка, а сам сечет, не державши, вдогонку. Это многим нравилось, и многие до сих пор так секут своих детей. Прощение только допускалось в незначительных случаях, и то ребенок, приговоренный отцом или матерью к телесному наказанию розгами без счета, должен был валяться в ногах, просить пощады, а потом нюхать розгу и при всех ее целовать. Дети маленького возраста обыкновенно не соглашаются целовать розги, а только с летами и с образованием входят в сознание необходимости лобызать прутья, припасенные на их тело. Маша была еще мала; чувство у нее преобладало над расчетом, и ее высекли, и она долго за полночь все жалостно всхлипывала во сне и, судорожно вздрагивая, жалась к стенке своей кровати.