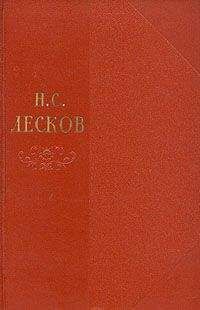Беда у нас родиться смирным да сиротливым — замнут, затрут тебя, и жизни не увидишь. Беда и тому, кому бог дает прямую душу да горячее сердце нетерпеливое: станут такого колотить сызмальства и доколотят до гробовой доски. Прослывешь у них грубияном да сварою, и пойдет тебе такая жизнь, что не раз, не два и не десять раз взмолишься молитвою Иова многострадательного: прибери, мол, только, господи, с этого света белого! Семья семьею, а мир крещеный миром, не дойдут, так доедут; не изоймут мытьем, так возьмут ка́таньем.
VI
Головы свои потеряли Прокудины с Настею. Пять дней уже прошло с ее свадьбы, а всё ни до какого ладу с нею не дойдут. Никому не грубит, ни от чего не отпирается, даже сама за работу рвется, а от мужа бегает, как черт от ладана. Как ночь приходит, так у нее то лихорадка, то живот заболит, и лежит на печке, даже дух притаит. Иной раз сдавалось, что это она притворяется, а то как и точно ее словно лихорадка колотила. Старшая невестка, Домна, хотела было как-то пошутить с ней, свести ее за руку с печки ужинать, да и оставила, потому что Настя дрожмя дрожала и ласково шепотом просила ее: «Оставь меня, невестушка! оставь, милая! Я за тебя буду богу молить, — оставь!» Домна была баба веселая, но добрая и жалостливая, — она не трогала больше Насти и даже стала за нее заступаться перед семейными. Она первая в семье стала говорить, что Настя испорчена. Бог ее знает, в самом ли деле она верила, что Настя испорчена, или нарочно так говорила, чтоб вольготнее было Насте, потому что у нас с испорченной бабы, не то что с здоровой, — многого не спрашивают. Дьявола, который сидит в испорченной, боятся. Оттого-то, как отольется иной бабочке житьецо желтенькое, так терпит-терпит, сердечная, да изловчится как-нибудь и закричит на голоса, — ну и посвободнее будто станет.
В Насте этакой порчи никакой никто не замечал из семейных, кроме невестки Домны. И потому Исай Матвеич Прокудин, сказавши раз невестке: «Эй, Домка, не бреши!», запрег лошадь и поехал к Костику, а на другой вечер, перед самым ужином, приехал к Прокудиным Костик.
— Вот! — крикнул Исай Матвеич, увидя входящего в дверь Костика. — Только ложками застучали, а он и тут. Садись, сваток, гость будешь.
Исай Матвеич помолился перед образами и сел в красном угле, а за ним села вся семья, и Костик сел.
— А где же Настя? — спросил Костик, осмотревши будто невзначай весь стол. — Аль она у вас особо ужинает?
— Нет, брат, она у нас совсем не ужинает, — отвечал Прокудин, нарезывая большие ломти хлеба с ковриги, которую он держал между грудью и левою ладонью.
— Как не ужинает?
— Да так, не ужинает, да и вся недолга; то живот, то голова ее все перед вечером схватывают, а то лихорадка в это же время затрепит.
— Что такое! — нараспев и с удивлением протянул Костик.
— Да уж мы и сами немало дивуемся. Жалится все на хворость, а хворого человека нельзя ж неволить. Ешьте! Чего зеваете! — крикнул Прокудин на семейных и начал хлебать из чашки щи с жирною свининою.
— Что ж это за диковина? — опять спросил Костик, еще не обмакнувший своей ложки. — Да где же она у вас?
— Кто? Настя-то?
— Да.
— А не знаю; гляди, небось на печке будет.
Костик молча встал с лавки и пошел к печке, где ни жива ни мертва лежала несчастливая Настя, чуя беду неминучую.
— Что ты лежишь, сестра? — спросил вслух Костик, ставши ногою на приставленную к печке скамью и нагнувшись над самым ухом Насти.
— Не по себе, братец! — отвечала Настя и поднялась, опершись на один локоть.
— Что так не по себе?
— Голова болит.
— Живот да голова — бабья отговорка. Поешь, так полегчает. Вставай-ка!
— Нет, брат, силушки моей нет. Не хочу я есть.
— Ну, не хочешь, поди так посиди.
— Нет, я тут побуду.
— Полно! Вставай, говорю.
Костик скрипнул зубами и соскочил с скамейки. Настя охнула и тоже спустилась с печи. Руку ей смерть как больно сдавил Костик повыше кисти.
— Подвиньтесь! — сказал Прокудин семейным, — дайте невестке-то место.
Семья подвинулась, и Настя с Костиком сели.
— Ешь! — сказал Костик, подвинув к сестре ломоть хлеба, на котором лежала писаная ложка. Настя взяла было ложку, но сейчас же ее опять положила, потому что больно ей было держать ложку в той руке, которую за минуту перед тем, как в тисках, сжал Костик в своей костливой руке с серебряными кольцами.
— Кушай, невестушка! — сказал Прокудин, а Костик опять скрипнул зубами, и Настя через великую силу стала ужинать.
Больше за весь ужин ничего о ней не говорили. Костик с Исаем Матвеичем вели разговор о своих делах да о ярмарках, а бабы пересыпали из пустого в порожнее да порой покрикивали на ребят, которые либо засыпали, сидя за столом, либо баловались, болтая друг дружку под столом босыми ножонками.
Отошел незатейливый ужин. Исай Матвеевич с Костиком выпили по третьему пропускному стаканчику, закусили остатком огурца и сели в стороне, чтобы не мешать бабам убирать со стола. Костик закурил свою коротенькую трубочку и молча попыхивал и поплевывал в сторону. Исай Матвеевич кричал на ребят, из которых одни червячками лезли друг за другом на высокие полати, а другие стоя плакали в ожидании матерей, с которыми они спали по лавкам. Настя стояла у столба под притолкой, сложа на груди руки, и молчала. Мужики вышли на двор управить на ночь скотину. Впрочем, мужиков дома, кроме самого Исая Матвеевича, оставалось только двое: Григорий да его двоюродный брат Вукол. Домниного мужа и двух других старших сыновей Прокудина не было дома, — они были на Украине.
Костик выкурил свою трубочку, выковырял пепел, набил другую и снова раскурил ее, а потом он встал с лавки и, подойдя к двери, сказал:
— Поди-кась ко мне, сестра, на пару слов.
Настя спокойно вышла за братом. Домна глянула на захлопнувшуюся за невесткою дверь и продолжала собирать со стола объедки хлеба и перепачканную деревянную посуду.
— Ты что это так с мужем-то живешь? — спросил Костик за дверью Настю, стоя с нею в темных сенях.
— Как я живу, братец, с мужем? — проговорила окончательно сробевшая перед братом Настя.
— Как! Разве ты не знаешь, как ты живешь?
— Да как же я живу?
— Что ты огрызаешься-то! Нешто живут так по-собачьи! — крикнул Костик.
— Я не живу по-собачьи, — тихо отвечала Настя.
— Стерва! — крикнул Костик, и послышалась оглушительная пощечина, вслед за которой что-то ударилось в стену и упало.
Домна отскочила от стола и бросилась к двери.
— Куда! — крикнул Исай Матвеевич на Домну. — Не встревай не в свое дело; пошла назад!
Домна повернулась к столу, смахнула в чашку хлебные крошки и, суя эту чашку в ставец, кого-то чертакнула.
— Кого к чертям-то там посылаешь? — спросил Прокудин старшую невестку.
Домна ничего не отвечала, но так двинула горшки, что два из них слетели с полки на пол и разбились вдребезги.
— Бей дробней! — крикнул с досадою Прокудин.
— И так дробно! — отвечала Домна, подбирая мелкие черепочки разбитых горшков.
— Да что ты, сибирная* этакая…
— Что! горшок разбила. Эка невидаль какая!
— Голову бы тебе так разбить…
Но в это время в сенях послышался раздирающий крик. Домна, не дослушав благожеланий свекра, бросилась к двери и на самом пороге столкнулась с Костиком.
— Совладал, родной! — сказала она ему с насмешкой и укором.
— Куда? — крикнул опять Прокудин. — Домна, вернись!
Но Домна не обратила никакого внимания на слова Прокудина и, выскочив в сени, звала:
— Настя! Настя! где ты? Настасья? Это я, откликнись, глупая.
Никто не откликается. Домна шарила руками по всем углам, звала Настю, искала ее в чулане, но Насти нигде не было.
Домна вернулась в избу, ни на кого не взглянула и молча засветила у каганца лучинную засветку.
— Куда с лучиной? — крикнул Прокудин.
— Настасью искать.
— Чего ее искать?
— Того, что нет ее.
— До ветру пошла.
— А може и за ветром.
— Брось лучину! воротится небось.
Домна лучины не бросила и вышла с нею в сени; влезла с нею на потолок, зашла в чулан, заглянула в пуньку, а потом, вернувшись, острекнула лучину о загнетку и сказала:
— Ну теперь уж сами поищите…
— Кого поискать?
Домна ничего не отвечала и, подозвав к себе плачущего пятилетнего сына, утерла ему нос подолом его рубашонки и стала укладывать его спать.
— Где Настасья-то? — спросил Прокудин.
Домна молчала.
— Слышишь, что ли? Что я тебя спрашиваю! Где Настасья?
— А мне почем знать, где она? может, в колодце, може, в ином месте. Кто ее знает.
— Да что ты нынче брешешь!
— Что мне брехать. Брешет брёх о четырех ног, а я крещеный человек.
— Не видал жены? — спросил Прокудин вошедшего Григорья.