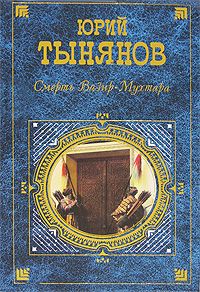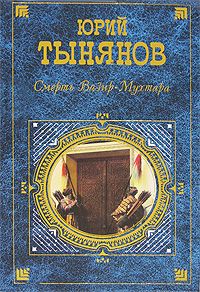Его старый приятель, граф де ла Фероней, которого недавно отозвали во Францию, писал ему каждую неделю из Парижа: французы беспокоятся, они недовольны, Европа соразмеряет русские силы со своими, и пусть уж он, Нессельрод, сговаривается с новым послом, а граф де ла Фероней советует: мир, мир во что бы то ни стало, любой, при первой удаче или неудаче.
Князь Ливен, посол в Лондоне, писал Нессельроду, что не выходит на улицу: дюк Веллингтон не желает с ним знаться, и только некоторые неудачи русских войск его умилостивят.
А лорд Абердин начал странным образом симпатизировать Меттерниху. Это уже было не brouhaha, а нечто похуже. Меттерних…
Но здесь открывалась старая рана – венский учитель отрекся от петербургского ученика, он ругал его на всех языках Дантоном и идиотом.
Карл-Роберт Нессельрод должен был при всем том управлять, управлять, управлять.
Днем и ночью, не разгибая спины, радоваться.
И его не хватило.
Управление он сдал своей жене, себе оставил – радость. Это была трудная задача. Он знал, что в Петербурге его прозвали печеной рожей и один писака сочинил про него ужасный площадной пасквиль: что он peteur[12], а не министр Европы.
Карл-Роберт Нессельрод, сын пруссака и еврейки, родился на английском корабле, подплывавшем к Лиссабону.
Равновесие и параллельная дружба качались теперь, как английский корабль, и это он, он, Карл-Роберт Нессельрод, кричал, как его мать в тот момент, когда она рожала его на корабле.
Впрочем, его крик наружно выражался в другом: он улыбался.
Он хотел сбавить немного цены этому странному курьеру, нащупать, что он такое за человек, но вместо того, кажется, просто выразил недовольство миром и тем показал, что мир устроился без него, без Нессельрода. Этот молодой человек тоже, кажется, из этих… из умников. Впрочем, он родственник Паскевичу. Нессельрод обернулся к коллежскому советнику, представлявшему собою смесь русской неучтивости и азиатского коварства, и весело улыбнулся:
– Мы еще поговорим, дорогой господин Грибоедов. Теперь пора. Надо спешить. Ждет император.
Меня позвали в Главный Штаб
И потянули к Иисусу.
Грибоедов
В мягких штофных каретах сидело дипломатическое сословие. Нессельрод усадил Грибоедова рядом с собой. В карете было душно и неприятно, карлик забыл дома приятную улыбку. Он снова найдет ее во дворце. В карете же он сидит страшный, без всякого выражения на сером личике и в странном, почти шутовском наряде.
На нем мундир темно-зеленого сукна, с красным суконным воротником и с красными обшлагами. На воротнике, обшлагах, карманных клапанах, под ними, на полах, по швам и фалдам – золото. По борту на грудке вьются у него шитые брандебуры. На новеньких пуговицах сияют птичьи головки – государственный герб.
Когда же карлик кутает ноги, – переливает темно-зеленый шелк подкладки.
На нем придворный мундир. На шляпе его плюмаж.
Они катят во дворец.
Все было заранее известно, и все же оба волновались. Они вступали в царство абсолютного порядка, непреложных истин: был предуказан цвет подкладки и форма прически, была предусмотрена гармония. Нессельрод с тревогой оглядел Грибоедова. Он помнил указ об усах, кои присвоены только военным, и о неношении бород в виде жидовских.
Коллежский советник, видимо, тоже знал указ и был причесан прилично.
Подкатили не к главным воротам дворца, а к боковым. Караульные солдаты вытянулись в струнку, и офицер отдал салют.
Как только карлик, а за ним Грибоедов выскочили кареты, вытянулось перед ними широкое незнакомое лицо. Звание лица было: Придворный Скороход. Походкой гордой и мягкой, как бы всходя на амвон, Придворный Скороход повел их в тяжелую дверную пристройку и предводительствовал ими, идя все тем же задумчивым шагом по лестнице. На голове его развевались два громадных страусовых пера: черное и белое. У входа в апартаменты Скороход остановился, поклонился и, оставив прибывших, стал медленно сходить по лестнице. Так он по тройке начал вводить дипломатическое сословие.
Грибоедов был желт, как лимон.
Скороход и Гоф-Фурьер шествовали молча впереди. Оба были упитанны, чисто выбриты и спокойны.
Дипломаты были введены в Комнату Ожидания.
Здесь их встретил Чиновник Церемониальных Дел. Он присоединился к Скороходу и Гоф-Фурьеру.
Сначала впереди шли: Гоф-Фурьер и Скороход.
Потом: Чиновник Церемониальных Дел, Гоф-Фурьер и Скороход.
Церемониймейстер, Чиновник этих Дел, Гоф-Фурьер и Скороход.
Обер-Церемониймейстер, просто Церемониймейстер, Чиновник названных уже Дел, Гоф-Фурьер и Скороход.
Их встречали в каждой новой зале, присоединялись молчаливо и, не глядя друг на друга, шагали, кто по бокам, кто впереди – вероятно, по правилам.
Тихая детская игра, в которую играли расшитые золотом старики, разрасталась.
Как только присоединялся новый чин в каждом новом зале, Грибоедов испытывал детский страх: так терпеливо они поджидали их, так незаметно отделялись от пестрой стены и сосредоточенно соразмеряли свой шаг с остальными.
Это напоминало дурной сон. В Зале Аудиенции Обер-Церемониймейстер застрял, по правилам, перед дверью, а встретил их Гофмаршал и Обер-Гофмаршал.
Нессельрод быстро посапывал от моциона и удовольствия. Серое личико стало розовым – их встречали с необычайным почетом.
И вот известный лик, с подбирающим шею воротником, ступеем, под которым ранняя лысина, с лосинами ног, почти съедобными, такой они были белизны. У него было розовое лицо.
Он сказал что-то и улыбнулся подбородком: большой подбородок осел книзу. Он взял у карлика из рук пакет и дернул головой и взглядом вбок, в сторону Обер-Гофмаршала. Старик в золоте засуетился, стоя на месте. Не сходя с места, он весь суетился, лицом и телом. Это был очень тревожный бег на месте.
Грибоедов догадался, в чем дело, когда ухнул первый выстрел.
Механизм был устроен так: нитка шла от известного лица через Гофмаршала к петропавловским пушкам. Лицо сделало жест, но пушка запоздала – и вот оно сердилось.
Так начали двухчасовой бой пушки.
Николай говорил с Нессельродом, держа его за брандебур. Потом он перешел к Грибоедову и спросил:
– Как здоровье моего командира?
Наследником он служил под командой Паскевича и с тех пор называл его командиром и отцом-командиром.
– Я, помнится, года три тому назад встречал вас у него.
– У вашего величества превосходная память. Пушки били, как часы.
Стоило трястись месяц в жар и холод, чтобы сказать плоский комплимент.
Карлик расцветал, как серая роза. Он считал выстрелы.
Он знал, что с каждым выстрелом что-то меняется в его формуляре.
Вот он мало-помалу становится графом, вице-канцлером. Вот аренды, ренты, имения. – Поздравляю вас, господа! Грибоедов знал заранее с чем.
Орден святыя Анны второй степени с алмазами был обещан ему Паскевичем. Он обеспокоился: неужели Паскевич забыл о деньгах – он просил четыре тысячи червонцев. Откуп от маменьки.
Карлик считал с просветленным лицом.
Он стоял золотою рыбкой в аквариуме.
Он как бы рос, выпрямлялся, тянулся, он уже не был более, как за час до того, просто Карл-Роберт Нессельрод, он был вице-канцлер империи. Он попробует вытянуться еще и еще, и, может быть, он дотянется до… чего?
Будь у него жабры, он захлопал бы ими.
Выстрелы.
Паскевич становился графом, Нессельрод – вице-канцлером.
Коллежский советник Грибоедов получал орден и червонцы.
Чеканились серебряные медали с надписью на лицевой стороне: «За персидскую войну», на обороте: «1826, 7 и 8».
Все уже были в дворцовой церкви, когда Нессельрод очнулся.
Он был английского исповедания, сын католика и протестантки, и привык молиться в православной церкви.
Пальба прекратилась. Город гудел от колокольного звона. Трезвон был не московский, не утробный и вздыхательный, а другой, пустой и звонкий, залихватский, как цоканье кавалерийских копыт.
Было молчаливое соглашение.
Под кораблем, что когда-то подплывал к Лиссабону, ходили подводные течения. Они ходили под дипломатическим сословием и знатными особами обоего пола.
Никто не знал, куда идет корабль, меньше всех – руководитель наружной российской политики.
Но все чувствовали, что от цвета мундиров зависит направление умов. Все знали, что воротник коллежского советника должен быть черный, бархатный. Иначе нити потеряют осязаемость, поплывут из рук, станут неуловимы. Корабль завертится, повторится декабрь, начнется вертиж.
Было молчаливое соглашение между известным лицом, карликом и русским богом.
В дворцовой церкви, похожей на детскую рождественскую елку, принял от коллежского советника рапорт в последний раз Бог. Известное лицо приняло рапорт от Бога и улыбнулось.
Он физически устал от дворца более, нежели от скачки, и, когда ринулся к себе в нумера, стал обнимать всех без разбора, единственно чтоб размять руки. Сколько их было в нумерах! Все старые друзья. Он успокоился, только обняв по ошибке Сашку, который вертелся под ногами, и рассмеялся.