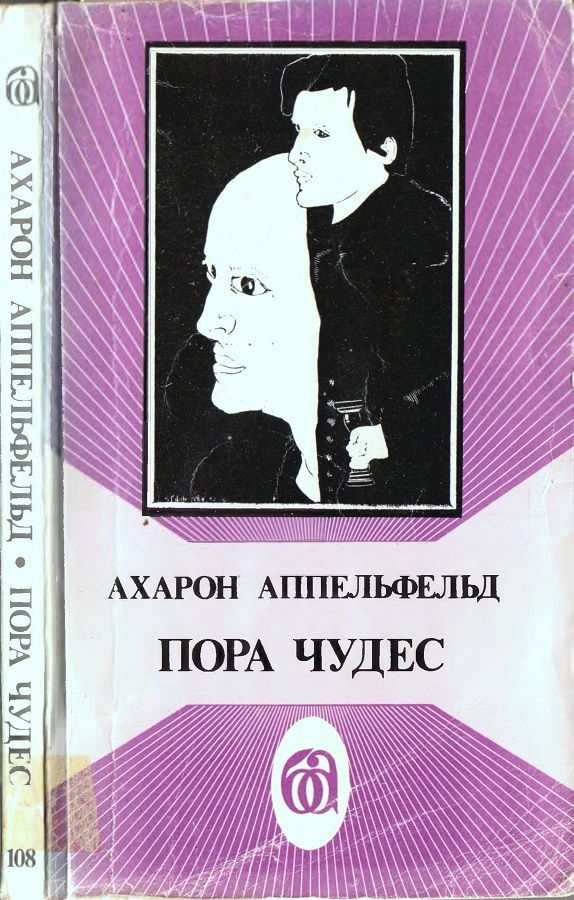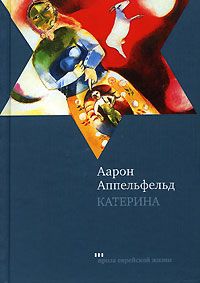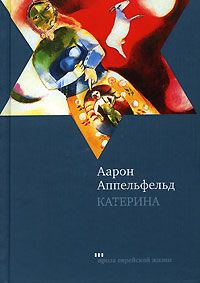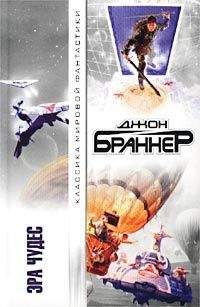голос, мне все больше казалось, что это мой собственный голос. Слова, смысла которых я не понимал, взвивались и полыхали, как факелы. И, в то время как я набирался, отваги, чтобы ворваться в комнату Луизы, Шарлотта запустила бутылкой в дверь.
Участников ссоры разняли наконец. Ландмана выпроводили в коридор, Шарлотту увели в библиотеку. Коммерсант Браун улизнул с черного хода.
С час спустя Луиза вышла из своей комнаты убирать посуду — лицо красное, как мак, на губах взбудораженная улыбка.
Шарлотта ночевать у нас не захотела, и отец проводил ее, пошатывающуюся, к таксомотору. Мне она сказала: ”Золотце”, — словно в сбивчивых мыслях я представлялся ей неодушевленным предметом. Лил дождь, автомобили жужжали на мокром асфальте, как осы. В комнатах густела, как студень, тишина. Внезапно я увидел перед собой пьяное маленькое личико Шарлотты, ощутил ее мятущийся взор, поблуждавший мгновение по моему лбу. И ладони отца ощутил, словно ко мне он прикасался, а не к Шарлотте. Новая любовница дяди Сало, гогоча во весь голос, спотыкалась теперь на лестнице, как стреноженная.
— Подай мне твою руку или твою ногу, — сказал ей дядя Сало. Любовницу колотил припадок смеха.
Сцены этого вечера потекли из меня, словно перед тем, как кануть на дно. Банальные слова струились вместе с объедками песенок, которые исполнял оркестр. Я знал: эта ночь посеяла во мне мрачные семена, с проросшими уже розовеющими корешками.
Комнаты имели растерянный и помятый вид. Мама сидела в кресле с закрытыми глазами. Из люстр лился резкий свет и бесстыдно обшаривал все уголки и закоулки.
Назавтра комнаты убрали, но злые духи не исчезли. И, хотя никто об этом не заговаривал, мне казалось, что все теперь происходит в такт колким речам Шарлотты. Луиза натянула на себя блузку-трико, и две большие ее груди преисполнились важности.
Конец лета мы провели в сельском пансионе под Баденом. Деревня была старинная; множество колодцев, лужаек и церковка с маленьким молельным залом. Дневной свет здесь оставался допоздна, ровно истончаясь и угасая, и вечерние краски были зеленые и насыщенные из-за влажных сельских запахов. Никто не говорил: ”Время позднее”; ночь приходила не спеша, как это бывает у моря, и дни умирали, только когда я смыкал глаза.
Тогда я впервые увидел свою младшую тетку, Терезу, высокого роста и очень похожую на маму. Ей было семнадцать, и уже тогда какой-то странный свет реял вокруг ее лба. Она готовилась к экзаменам на аттестат зрелости, и мне это испытание представлялось почему-то в виде запоздалой детской болезни, которую приходится переносить в семнадцатилетнем возрасте. С наступлением темноты она, надев жакет, выходила из своей комнаты, как арестант, которому отмерены его часы. А когда возвращалась, сидела с мамой и отцом в гостиной — но это уже принадлежало не мне, а моему сну. Краешек ее лица туманно открывался и тотчас растворялся во мне трепетно-сладкой тенью.
А было и несколько теней пугающих, вроде доктора Мирцеля, который, являясь с приходом темноты, ущипывал меня в щеку и говорил:
— Вот перед вами маленький еврей.
— Почему — еврей? — встревоженно спрашивала мама.
— Потому что у юноши хилый вид. Юношей надобно закалять, пока они юноши.
Из внутренних покоев выходил отец и громко восклицал:
— Доктор Мирцель, где вы?
— Повсюду я окружен евреями. Спасения от них нету, — шутил доктор Мирцель.
Я знал: это всего лишь вечерняя веселость, но Мирцель откладывал во мне некую тягость, проникавшую в мои сны. Светлое утро стирало все, тем более, что начиналось оно прогулкой вдоль реки и заканчивалось на мельнице, где в подвале торговали сидром в разноцветных кувшинах.
А волшебство тех последних летних дней напустила на нас мачеха отца. В то время ей было уже девяносто три года — слепая, забытая в санатории вот уже тридцать лет. Никто из нас о ней не вспоминал, и навряд ли мы хотели повидать ее. Но дело обернулось независимо от наших желаний. Из санатория пришло письмо, написанное рукой сестры-хозяйки, с приветами нам всем, неожиданного для нас содержания: ”Временами думаю о вас и вижу вас иногда во сне”. Отец поспешил показать маме письмо. Они обменялись взглядами. ”Странно, не правда ли?” — промолвил отец и тут же решил, что мы заберем ее с собою в Баден.
С этого момента события приняли определенный настрой. Отправился отец, к нему присоединился дядя Сало, мы весело махали им из окна, однако смутная неловкость закралась мне в душу.
Как обычно, сборы слегка затянулись, и мы с мамой вышли из дома с опозданием. И все же на станцию попали вовремя. Я жалел, что Луиза не едет с нами. Она в то время навевала на меня какую-то тайную сладость, и это огорчение омрачило мое маленькое счастье.
В Баден мы приехали ночью. Перрон был залит огнями. У киоска сгрудились мужчины и женщины, их сцепленные руки были исполнены вожделения. Пакгаузы были уже на замке. Возле пакгаузов стояли стреноженные лошади.
Отец с дядей Сало дожидались нас у выхода, стоя по бокам переносной кровати; на кровати лежала Амалия, мачеха отца. Мы поговорили с нею. ”Очень спокойная”, — заметил дядя Сало, словно речь шла не о близком человеке, а о строптивом существе, которое больше не баламутит. Экипаж потребовался, конечно, двойной вместительности, с упряжкой из четырех лошадей. Сначала она не узнала нас, точнее, не опознала по голосам, и ехать с нами не хотела, но мы ее уломали уговорами, пообещали приятное общество. Лицо отца было странным. Как будто не он участвовал в этой авантюре, а все совершалось силой тайного веления. Безволие какое-то и невнятное удивление, которых раньше я в нем не замечал.
У бабки Амалии были дочери от первого брака, они поначалу заботились о ней, но потом повыходили замуж за иноверцев и перестали к ней приходить. В последние годы ее не навещал никто. Об этом рассказала сестра-хозяйка, монахиня, которая к ней сильно привязалась.
Первые дни отдыха были, как обычно, приятны. Из дому вызвали Луизу, и уход за Амалией был передан ей. Между прогулками мы заглядывали проверить все ли в порядке. Из Бадена приехал врач и приговорил: старуха заслуживает уважения. Так к нам вернулись длинные дни, насыщенные светом. Раз в день отец с дядей Сало вытаскивали переносную кровать на лужайку. И тогда я рассмотрел это ложе с близкого расстояния. Нечто вроде высоких носилок на четырех копытах, никчемно помпезное, наводившее на мысль о предмете древнего