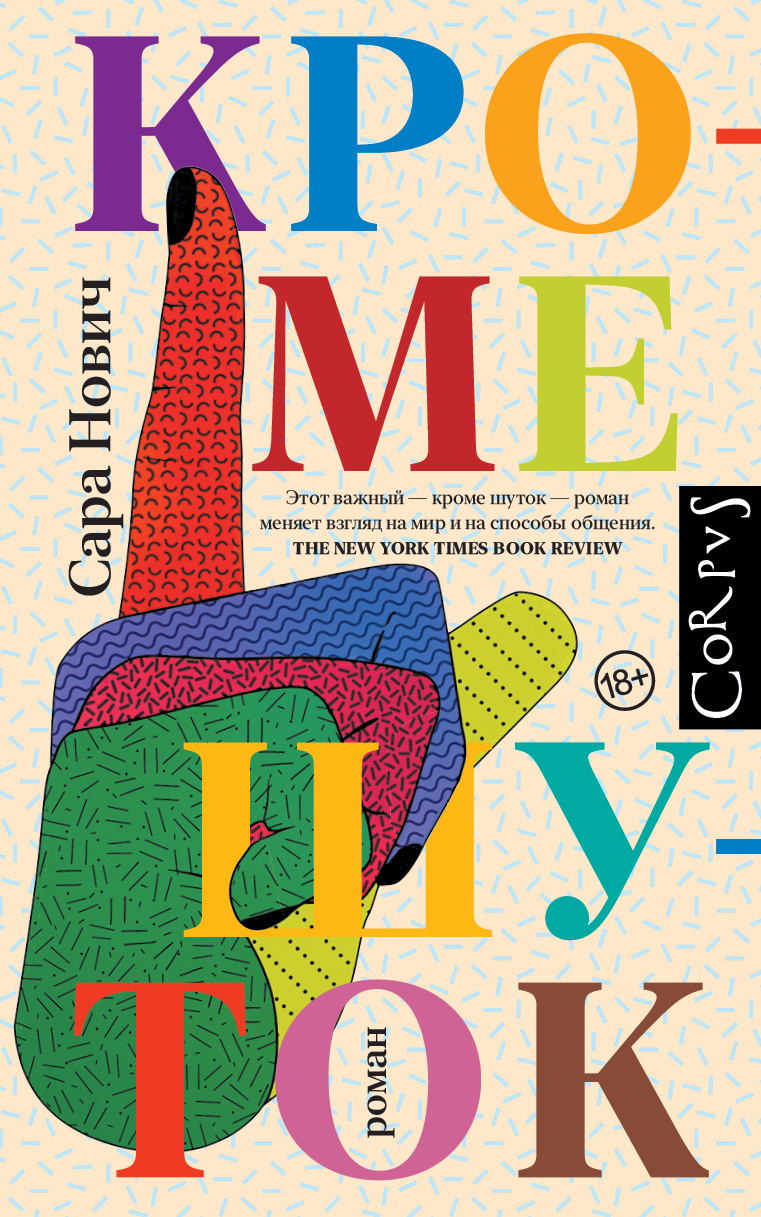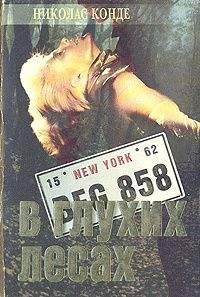– это болезнь, наказание за грехи, а он плод былого безрассудства, Элиот среди Иоаннов, Петров и Ноев. Иисус на глазах у толпы исцелил глухого, засунув ему пальцы в уши, как в шутку делают дети, и плюнув ему на язык. После того как Элиот узнал об этом, ему снилось, какой может быть на вкус чужая слюна.
Однажды в воскресенье после службы пастор Шерман поймал мать Элиота в дальнем углу часовни. Элиот попытался подобраться ближе, чтобы посмотреть, о чем они говорят, но увидел только, как его мать кивает, повторяя: Разумеется, разумеется. Когда Элиот увел ее, оказалось, что она хочет вернуться в церковь вечером на специальную службу – “пробуждение”, как она это назвала. Остаток дня они провели, выполняя поручения преподобного Шермана и бегая по магазинам в поисках вещей, названия которых были вполне достойны какого‐нибудь мифологического списка покупок. В аптеке они взяли целый набор эфирных масел; в продуктовом – то, что выглядело не очень‐то съедобным: шиповник, семена базилика и ладан. Все это заняло два пакета, и Элиот отнес их в багажник.
К тому времени, когда они вернулись в церковь, вторая служба уже началась, и на экране ярко-пурпурным трехмерным шрифтом WordArt было написано “ПРОБУЖДЕНИЕ”. Они с матерью уселись на ставшую для них привычной скамью, но всего через несколько минут Элиот увидел, что та самая девушка встает. Проходя мимо, она встретилась с ним взглядом.
Он подождал, пока она выйдет из зала, и последовал за ней. В атриуме ее нигде не было видно, но тут он почувствовал руку – ее руку – на своей. Она потянула его в какую‐то кладовку.
Девушка дернула за шнурок над головой, и в кладовке загорелась голая лампочка. Комната была заставлена металлическими стеллажами, которые, в свою очередь, были заполнены большими пластиковыми контейнерами с гостиями. Он чуть не рассмеялся, когда увидел ряды этих контейнеров, и представил, как преподобный Шерман идет в “Костко” покупать коробку хлебцев Иисуса. Но девушка подошла ближе и приложила палец к губам, призывая к тишине.
Элиот, – сказала она, – я рада, что ты пришел.
Он так нервничал перед тем, как поцеловать ее, что ощущал в буквальном смысле тошноту, но как только они начали, его тело расслабилось, двигаясь так, словно всегда знало, что делать. Она была мягкой и пахла детской присыпкой, и он провел пальцами по ее шее и вниз по изгибу талии, потом снова вверх по животу под футболкой. Девушка резко выдохнула, но не отстранилась.
Однако, стоило ему расстегнуть пуговицу на ее джинсах, как она быстро оттолкнула его. Элиот ударился локтем об одну из полок с гостиями и прикусил губу, чтобы не издать ни звука. Он потянулся к ее руке, чтобы сказать, что просит прощения, но ее взгляд изменился, глаза расширились уже от чего‐то другого, не от расстегивания джинсов.
Тебя зовут, – сказала она.
Элиот приподнял бровь: о чем ты?
Он мог бы поклясться, что она сказала: У тебя все получится, – хотя эти слова не имели смысла, по крайней мере сейчас. Она повела его обратно в главный зал, где все уже вскочили на ноги и вскинули руки, гитаристы неистово били по струнам, а три пары гигантских губ священника на экране произносили:
Подойди и будешь исцелен!
На помосте били руками по голове какого‐то старика, и Элиот застыл посреди прохода, недоумевая, как кто‐то мог узнать, что он ударился локтем, но уже через пару секунд все прояснилось. Люди подняли старика на ноги.
Исцелен! – воскликнул Шерман. – Исцелен и спасен! И Господь сказал: “Будьте тверды, не бойтесь; Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся!” [8]
Как только Шерман произнес эти слова, желудок Элиота начала разъедать желчь, и он шагнул было назад, но быстро почувствовал руки на своей спине и на всем теле, и это было не так, как с девушкой, они были намного сильнее. Он попытался найти в толпе свою мать, но наверху, на помосте, горели ослепительные огни, такие же ослепительные, как тот свет, который видел его отец. Такие яркие, что он вообще ничего не мог разглядеть.
Его повалили на пол. Преподобный Шерман навис над ним, крича непонятно что, и придавил коленом плечо Элиота, и когда его голову повернули набок, он попытался сопротивляться, но теперь их было очень много, и они навалились ему на руки, ноги и грудь. Ему влили что‐то в ухо, и это что‐то было обжигающим, маслянистым и пронзило его насквозь. Элиоту показалось, что он увидел силуэт своей матери, или, может, это была девушка, но, как бы то ни было, он высвободил одну руку и сказал: Помогите! Пусть они перестанут! – пока его снова не прижали к полу.
Прожекторы пылали жгучим белым светом, раскаленное масло резало его слуховой проход и ввинчивалось глубоко в голову, и Элиот понял, что кричит.
В какой‐то момент рассказ Элиота становится настолько душераздирающим, что Чарли больше не может слушать и идти одновременно и застывает посреди дороги. Остин нежно берет ее под локоть и уводит в темный угол двора, где они и выслушивают всю историю до конца. Когда Элиот заканчивает, она порывается обнять его, но он не похож на человека, который хочет, чтобы его обнимали. Он похож на человека, готового к бою.
Это ужасно, – не выдерживает она.
Остин проводит руками по лицу, как будто хочет стереть стоящую перед глазами картину плавящейся кожи своего соседа. Элиот ничего не говорит и ведет их через неосвещенную парковку.
Они забираются в пикап Элиота, и Чарли втискивается между парнями; им слишком тесно втроем и они слишком напряжены, чтобы устроиться поудобнее. Остин включает свет в салоне, и Элиот вздрагивает, но кивает, показывая, что надо его оставить. Чарли объясняет, как добраться до дома Слэша, и рассказывает им о своем плане.
Подождите здесь, – говорит она.
Она взбегает по ступенькам, колотит по фанере. Нет ответа. Если они хотят, чтобы все получилось, нужно, чтобы их никто не увидел. Она возвращается к машине и говорит в окно:
Есть еще одно место. Но пикап надо оставить тут.
Элиот паркуется в переулке, и она отводит их к “Канистре” – на дороге нет ни уличных фонарей, ни других признаков жизни.
Чарли догадывается, что “Робеспьеры” только что закончили выступление, потому что они все потные, и к тому же она видит, как Слэш, пожав плечами, возвращает Грегу его